
 |
| [ На главную ] -- [ Список участников ] -- [ Зарегистрироваться ] |
| On-line: |
| Театр и прочие виды искусства / Общий / Пример для подражания. |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>> |
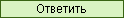
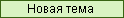
|
| Автор | Сообщение |
|
Tusik Мыслитель Группа: Участники Сообщений: 841 |
Добавлено: 24-04-2007 13:35 |
а так хотелось пикантности))))))))))))))))))))))) |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 24-04-2007 16:33 |
| Моцарту папа не давал шаг в сторону сделать, эксплуатация детского труда) Какая уж пикантность - лишили ребенка детства. | |
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 24-04-2007 18:14 |
|
Фритьёф Роди Интенсивность жизни К вопросу о месте графа Йорка между Дильтеем и Хайдеггером Эта сцена хорошо известна. Она была неоднократно описана одним из ее персонажей. В маленькой хижине в Шварцвальде сидят двое молодых философов, один, 34-х летний, — только что занял должность экстраординарного профессора, другой, 23-х летний, — доктор философии. Профессор зачитывает вслух отрывки из новой, тогда еще даже не опубликованной официально книги, из переписки между одним известным, вот уже двенадцать лет как умершим профессором философии и его близким другом — аристократом из старого прусского рода, — другом, о философском значении которого никто еще не догадывался. Это — переписка между Вильгельмом Дильтеем и графом Йорком фон Вартенбургом[1], а наших молодых философов зовут Мартин Хайдеггер и Ганс-Георг Гадамер. Оба коротают тяжелейшие недели инфляции 1923 года в хижине Хайдеггера, получая от крестьян Тодтнауберга все необходимое. Так, во всяком случае, описывал эту сцену Гадамер[2]. Он же сообщает о чувстве глубокого удовлетворения, с которым Хайдеггер зачитывал вслух те места из переписки, где граф Йорк возражает своему другу и развивает собственные мысли об историчности человека. Хайдеггер включил эти места в свой труд “Бытие и время”, над которым он тогда работал, и в заключение того 77 параграфа он возвестил свое, ставшее впоследствии знаменитым, намерение: “хранить дух графа Йорка, чтобы служить делу Дильтея”[3]. Гадамер обращал внимание на то, что такое выражение является весьма двусмысленным. “Здесь косвенно содержится весьма критическое суждение о Дильтее. Ведь ‘дух графа Йорка’ — это не дух Дильтея. Такого рода косвенная критика была ему свойственна”[4]. В самом деле, потом оказалось весьма спорным, может ли изучение философии Йорка под влиянием Хайдеггера быть полезным для распространения дела Дильтея. Общий тон, что утвердился, в конце концов, в оценке Дильтея и Йорка был таков, что Дильтей был явно задвинут за Йорка. Фриц Кауфман, первым в окружении Гуссерля и Хайдеггера написавший монографию о Йорке, подчеркивал уже в начале своей книги полученное от переписки впечатление, что “Йорк по радикальности, мощи и законченности своей мысли далеко превосходит Дильтея”[5]. Затем и Гадамер сделал “преодоление Дильтеевой гносеологической постановки вопроса” у Гуссерля, Йорка и Хайдеггера исходным пунктом своей собственной философской герменевтики[6]. Цель нижеследующих размышлений — не в том, чтобы в очередной раз поставить под вопрос справедливость этой критики в адрес Дильтея[7]. Бросив ретроспективный взгляд на развитие исследований последних 15-20 лет я скорее постараюсь зафиксировать изменения в образе трех столь разных мыслителей — Дильтея, Йорка и Хайдеггера, а также выяснить вопрос, в каких пунктах мы сегодня можем и должны рассматривать поле их отношений иначе, чем это было принято в конце двадцатых годов. I Если сначала речь пойдет об исследованиях последних 15-20 лет, то это касается в меньшей степени исследовательской области под названием “граф Йорк”, нежели областей под названием “Дильтей” и “Хайдеггер”. С момента выхода в 1970 г. богатой материалами монографии Карлфрида Грюндера[8], о Йорке не было написано, за исключением нескольких статей[9], ни одной большой работы. Так что здесь исследовательская ситуация за 30 лет почти не изменилась. Все важнейшие в систематическом отношении сочинения Йорка стали уже давно общедоступными: помимо переписки с Дильтеем и “Итальянского дневника”, в период с 1956 г. были изданы под редакцией Иринга Фетшера фрагменты “Тип сознания и история” и “Гераклит”, а с 1970 г. — ранняя работа Йорка о “Катарсисе Аристотеля” и “Фрагмент 1891 года”[10]. В отличие от этой ситуации, больше напоминающей морской штиль, из рукописного наследия Дильтея и Хайдеггера было издано столько нового материала, что можно в обоих случаях говорить о новом этапе рецепции. Такая ситуация осталась не без последствий и для исследования поля отношений Дильтей—Йорк—Хайдеггер, хотя в случае Йорка речь идет всякий раз лишь о косвенном обращении исследователей. В отношении Хайдеггера я попытался показать в одной из моих прежних работ[11], что в его ранних Фрейбургских лекциях обнаруживается поразительно детальное обращение к мыслительным импульсам Дильтея, ослабевающее, правда, позднее, после открытия графа Йорка. Тем временем все эти лекции изданы почти в полном составе[12], так что поле отношений, реконструированное мною тогда лишь на основе студенческих конспектов, теперь может быть проверено с помощью аутентичных текстов полного собрания сочинений. Я не буду здесь повторять мое тогдашнее изложение, а лишь дополню его таким образом, что, опираясь на тексты двух ранних Фрейбургских курсов лекций, я очерчу ход развития Хайдеггера в той мере, в какой он может быть представлен как приготовление к встрече с мыслью графа Йорка. Так что и здесь речь идет лишь косвенно о Йорке, поскольку его тень как бы ложится на описываемое развитие. 1. В курсе лекций летнего семестра 1920 г. о “Феноменологии созерцания и выражения”[13] Хайдеггер, подробно разбирая противопоставление Наторпа и Дильтея, ставит последнего в центр рассмотрения, хотя всего лишь год назад в курсе лекций о “Феноменологии и трансцендентальной философии ценностей”[14] он упомянул Дильтея впервые. Также и в этом предыдущем курсе лекций Хайдеггер производит разбор неокантианства, в этот раз, однако, философии ценностей Виндельбанда и Риккерта, разбор, в заключительных пассажах которого, посвященных Риккерту, он весьма резко сводит счеты со своим прежним учителем. Та роль, что отводится здесь Дильтею, заключается в расширении понятия феноменологии. Ибо, хотя название курса и дает основания предположить, что Хайдеггер сталкивает своего нового учителя Гуссерля со своим прежним учителем Риккертом, однако уже во введении к курсу это предположение подвергается исправлению. Уже здесь для Хайдеггера речь идет о расширенном понятии феноменологии, расширенном в сторону того измерения, чье отсутствие у Гуссерля он постоянно порицал, — измерения исторического понимания. Дильтей здесь становится поправкой. Собственное же понятие феноменологии Хайдеггера уже в 1919 г. включает историческое понимание в методологическую концепцию: “Феноменология и исторический метод, их абсолютное единство в чистоте понимания жизни в себе и для себя”[15]. Цель феноменологической критики — это “видение и показывание истинных, подлинных истоков духовной жизни вообще”[16]. То, что Хайдеггер в более поздних лекциях и публичных выступлениях клеймит как “неисторичность” и “враждебность истории” в феноменологии[17], в этом курсе лекций летнего семестра 1919 г. представлено в качестве заслуживающей признания комплементарности исторического понимания и феноменологического метода. “Поскольку все это разделение исторического и систематического, все еще царящее повсюду в сегодняшней философии, совершенно неподлинно, постольку можно позитивно показать, в каком смыслефеноменологическо-исторический анализ представляет собой тождественно-единый изначальный метод феноменологического исследования”[18]. Если десять лет спустя Хайдеггер считал надоедливым и даже смешным приклеивание к “Бытию и времени” ярлыков, вроде “синтез Дильтея и Гуссерля с приправой из Кьеркегора и Бергсона”[19], то, по крайней мере, в 1919 году он был вовсе не чужд мысли о синтезе феноменологии и исторического сознания. 2. Другой ранний курс лекций Хайдеггера во Фрейбурге, на котором я хочу здесь остановиться, — это овеянный в то время легендарной славой летний курс 1923 г. под вводящим в заблуждение названием “Онтология (герменевтика фактичности)”[20]. Если выше было сказано, что тень графа Йорка ложится на ход развития Хайдеггера, то это относится особенно к летнему курсу лекций 1923 г. В обычной для его ранних лекций манере Хайдеггер оперирует с двумя противоположными течениями или тенденциями, на фоне которых он затем определяет свою собственную позицию. Хайдеггер различает два сегодняшних “способа истолкования здесь-бытия”, каковые он обозначает как “историческое сознание” (или просто “история”) и “философия в сегодняшнем дне”. Оба этих способа, как выясняется в ходе изложения, упускают ту “бдительность здесь-бытия в отношении самого себя”[21], т. е. то понимание, что является не “познавательным отношением к чужой жизни”, а “способом самого здесь-бытия”[22]. Оба этих направления суть лишь “противоположные возможности” истолкования здесь-бытия. Я не буду специально останавливаться на месте Дильтея в рамках этого поля отношений. Лишь вкратце замечу, что в данном случае Дильтей, которого Хайдеггер в своих лекциях постоянно охраняет от разных искажений и тривиализаций, берется под защиту от Шпрангера, которого Хайдеггер упрекает в “систематически осуществляемом разжижении Дильтея”[23]. Прямо-таки поразительным, учитывая лишь несколько месяцев спустя произошедшее открытие Йорка, следует назвать то, что в данном курсе лекций предвосхищается характеристика ложных форм исторического сознания. Хайдеггер целится здесь в Шпенглера и его морфологический способ рассмотрения всемирной истории. Он, однако, вовсе не настроен односторонне враждебно против Шпенглера. Его пристрастие к великим аутсайдерам, к каковым он одно время причислял и Дильтея, распространяется в известной степени и на исторического морфолога, с которым не может справиться “философия ординарных профессоров, это вопиющее ничтожество с его пустой ходульной напыщенностью”[24]. При этом следует подчеркнуть, что Хайдеггер в своем разборе обоих способов истолкования здесь-бытия применяет разработанный уже в летнем курсе 1919 г. принцип, согласно которому феноменологическая критика представляет собой не “опровержение и не доказательство обратного”, а “позитивное выслушивание подлинных мотивов”[25]. Историческое сознание и философию в сегодняшнем дне он не разделывает в полемике и не искажает до карикатурного облика. Напротив, он выявляет их общий мотив, на который направляется феноменологическая критика. Суть этого мотива в том, “что в обоих способах истолкования здесь-бытия оно само стремится к объективному обладанию здесь самим собой, к помещению себя самого в это здесь”[26]. “Способ предохранения — объективный. Здесь-бытие встречает в обоих способах истолкования само себя так, как оно есть вне всяких позиций само по себе”[27]. В отношении истории, и, в частности, Шпенглера, это означает, что историческое многообразие, например, историческое многообразие культур, приводится посредством сравнительно-морфологического метода в “замкнутую образную взаимосвязь образов”, а историческая экспликация осуществляется в виде “сравнительного упорядочивания образов”[28]. Однако концентрация “на соответствующем типе образов выразительности, на стиле” приводит к тому, что сравнительное упорядочивание образов дает гарантию “для одинаковой ‘объективной’ возможности встречи с любым культурным образом прошлого”[29]. Взятое на себя обязательство сдержанности при критическом изложении Шпенглера в этом, столь богатом на резкие формулировки, курсе лекций (достаточно вспомнить осуждение вошедшего в моду феноменологического цеха[30]) все же нарушается там, где речь заходит уже не о Шпенглере, а о влиянии его и близких ему течений в науках о духе. Морфологический прием — искать повсюду стилистические формы, образы, типы, формы выражения и упорядочивать их, например, “изображая стилистические формы набожности в виде увлекательных таблиц” — именуется коротко “обезьяньим подражанием истории искусства”[31]. Тот, у кого на слуху соответствующие формулировки Йорка, цитируемые Хайдеггером в “Бытии и времени”, может задать удивленный вопрос, а не был ли Хайдеггер уже летом 1923 года знаком с письмами Йорка. Озадаченность читателя увеличится еще больше, если упомянуть, что один из излюбленных терминов Йорка для обозначения “историчности” — “виртуальность”, также встречается в этом курсе лекций[32]. Как известно, Хайдеггер в “Бытии и времени” вводил это понятие следующим образом: “Ясное понимание основного характера истории как ‘виртуальности’ Йорк обретает из познания бытийного характера самого человеческого здесь-бытия, т. е. как раз не научно-теоретическим путем из объекта исторического рассмотрения”[33]. Однако загадка того, каким образом Хайдеггер уже в летнем семестре 1923 г. мог использовать понятие виртуальности, разрешается при более внимательном рассмотрении рукописи курса лекций. Пассаж, включенный в GA 63 (стр. 54 сверху) в основной текст (“Прошедшая наличность, настоящее, а не прошедшее как моя, наша виртуальность”), так же как и относящееся к нему примечание — все это позднейшее добавление, вставленное видимо под влиянием чтения Йорка[34] Но даже если эта загадка и разрешима критико-филологическим путем, можно все же с уверенностью сказать, что Хайдеггер в курсе лекций лета 1923 г. создал для себя и своих учеников наилучшие предпосылки для того, чтобы глубоко воспринять и поддерживать неослабевающий интерес к мыслям Йорка. Возникает желание сказать о воистину кайрологической констелляции, в которой Хайдеггер натолкнулся на философию графа Йорка как раз в тот момент, когда ему самому стала видна ограниченность сравнительно-исторического метода понимания и он начал разрабатывать более радикальную концепцию историчности. 3. Если мы от этих размышлений, ставших возможными благодаря исследованиям истекшего десятилетия, вновь вернемся к хорошо известным и много раз цитировавшимся текстам, то возникает вопрос о необходимости обновленной интерпретации. Я не стану заходить слишком далеко, требуя принципиально новой оценки и реинтерпретации. Скорее речь идет здесь о перестановке отдельных акцентов, каковая исходит, между прочим, не только от знакомства с лекциями Хайдеггера, что стали доступными в последнее время. В первую очередь здесь представляется необходимым обновленное прочтение и комментирование § 77 “Бытия и времени”. В начале нашего изложения было сказано, что Хайдеггер собрал в этом разделе все те места из переписки, где Йорк возражает своему другу. Однако такая предварительная формулировка нуждается в уточнении постольку, поскольку лишь самая незначительная часть из большинства цитируемых Хайдеггером мест действительно содержит критику в адрес Дильтея. Точнее говоря, речь идет лишь об одном большом письме Йорка от 21 октября 1895 г. (и в меньшей степени также и о письме от 4 декабря 1887 г.), откуда взяты критические возражения в адрес Дильтея. Но из-за того, что Хайдеггер поставил важнейшую формулу о “родовом различии онтического и исторического”[35] в самом начале длинного ряда цитат, все последующее оказывается затронуто этим критическим возражением. Эта много раз цитировавшаяся формула заключает в себе сомнения Йорка по поводу, на его взгляд, слишком сильного сближения “органического и исторического мира”, каковое Дильтей в своих “Очерках по исследованию индивидуальности” положил в основу своего разбора проблемы индивидуации в естествознании и науках о духе[36]. “Онтическое” для графа Йорка — это не просто природа (и уж точно не res extensa), а все отрешенное от исторических сопряжений. “Историческое” же означало для него, напротив, всякую “жизненную стихию” человека в ее включенности в ту “взаимосвязь сил”, что Йорк называл “виртуальностью”, употребляя это слово в необычном сегодня смысле, т. е. в смысле сил, воздействующих на меня. Данное различие имело для Хайдеггера характер внезапного прозрения, в силу чего он вырвал эту формулу из контекста названного письма, сделав ее как бы общим знаменателем позиции Йорка в отношении к его другу. При этом, как правило, забывают, что как раз в этом октябрьском письме 1895 г. содержится наивысшая похвала Дильтею. Йорк говорит об искусствоведческих разделах дильтеевского трактата, что “это есть нечто большее, чем все когда-либо сказанное Гёте, Тиком и Шлегелями о поэтах и поэзии. Здесь действительно и без всяких оговорок дано доказательство самостоятельности наук о духе”[37]. Так что при обращении к критике Йорком Дильтея, на которую ссылается Хайдеггер, требуется некоторая перестановка акцентов. Тот, кто признает у своего друга такую компетентность изложения, ведь не будет вкладывать в замечание об отсутствии “родового различия” окончательный вердикт, каковому было суждено десятилетиями отзываться эхом в немецкой философии. Вместе с тем, нельзя умиротворяюще нивелировать различия, проявляющиеся в переписке. Хайдеггер, несмотря на свой весьма сомнительный способ цитирования, все же прав, когда он воспринимает высказывания Йорка против исторической школы и сравнительного метода как чуждый духу Дильтея. В этом пункте он прав не только объективно, т. е. в отношении источника, но, прежде всего, субъективно, т. е. в своей собственной, разработанной в “Герменевтике фактичности”, установке и, даже, настроении. Он достиг той точки, где он не только воодушевленно включает историческое сознание в свой феноменологический подход (такую точку зрения он разделял уже в 1919 г.), но где он считает необходимым изгнать из своего анализа здесь-бытия некоторые гипертрофированные формы созерцательно-исторического исследования гештальтов. С этим-то и связано чувство удовлетворения от критики Йорком исторической школы, о котором сообщает Гадамер: “Ее название обманчиво. Ведь эта школа была вовсе не исторической, а антикварной, эстетически конструирующей”[38]. С этим же связано и чувство удовлетворения от критики Йорком сравнительного метода, каким пользовался Дильтей: “Здесь наши пути расходятся. <...> Сравнение всегда эстетично, всегда зависит от образа”[39]. Даже если Хайдеггер еще не мог знать систематических оснований критики Йорком “чисто окулярных определений” историков, мыслящих образами, ибо таковые основания стали известны лишь благодаря фрагменту “Тип сознания и история”, то он все же угадал за теми немногими местами из переписки защитника новой концепции историчности. Весьма странным в этой связи представляется тот факт, что Хайдеггер не обратил внимания и не включил в собрание цитат § 77 то понятие Йорка, что впоследствии, и не без влияния Хайдеггера, стало у некоторых его учеников одной из важнейших категорий — понятие причастности. Одна из наиболее основательных поправок Йорка к психологически-герменевтическому подходу Дильтея состоит как раз в том, что Йорк хотел заменить этим понятием дильтеевское выражение “однородность” (Дильтей, правда, не принял это предложение). В своих “Очерках” он, в соответствии со своим и в других работах часто излагаемым подходом, обосновывал возможность наук о духе на “однородности фактов собственного внутреннего опыта с теми фактами, что мы вынуждены полагать и в других человеческих телах”[40]. Это та самая, несколько неудачная, модель понимания, что оперирует связью внешнего и внутреннего опыта и должна быть отмечена как остаток картезианства в Дильтеевой теории понимания. Здесь Йорк по праву утверждает, что особенно при обращении к историческим личностям внешний опыт их возможного физического присутствия не имеет совершенно никакого значения: “Лютер, Августин, Св. Павел воздействуют на меня актуально и бестелесно. Такое воздействие непосредственно и самостоятельно и не имеет ничего общего с безрезультатным рассуждением о том, что если бы они были живы, то я смог бы увидеть их тела”[41]. Именно этот пункт сделал Фритц Кауфман, а затем и Гадамер исходным. Так, в “Истине и методе” Гадамер пишет: “В свете произведенного графом Йорком противопоставления ‘однородности’ и ‘причастности’ становится видна проблема, развернутая Хайдеггером во всей ее радикальности”[42]. Таким образом можно сказать, рассматривая в ретроспективе данное развитие, намеченное здесь лишь несколькими вехами, что почва для приема Йорка как нового философского автора была хорошо подготовлена. История о двух молодых философах в шварцвальдской хижине имеет поэтому не просто анекдотический характер. Даже если все было на самом деле иначе, то все же эта история обладает более глубокой истиной — истиной легенды. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 24-04-2007 18:16 |
|
До сих пор философия графа Йорка фигурировала в наших размышлениях в качестве почти недостижимой цели, в ориентации на которую были вычленены некоторые тенденции в развитии мысли раннего Хайдеггера. Теперь же мы сделаем следующий шаг, на этот раз, в обратном направлении: исходя из некоторых центральных идей Йорка мы вначале выявим его точки соприкосновения с Дильтеем, а затем обозначим то действительно глубокое концептуальное различие, в перспективе которого снова обнаружится духовное сродство Йорка и Хайдеггера. 1. Основную мысль Йорка, из которой выводимы практически все остальные его теоремы, можно резюмировать следующим образом[43]: в ходе “самоосмысления”, т. е. “самонаблюдения”, осуществляемого в форме феноменологии сознания, Йорк углубляется до основного состава первичной психической “жизненной стихии”, каковую можно назвать первичной энергией сознания как жизни. Однако эту жизненную стихию я узнаю на опыте самоосмысления не в виде законченного и цельного единства, но всегда уже “расчлененной на самость и другое, душу и тело, я и мир, внутреннее и внешнее”[44]. Такое “расчленение” (Дильтей говорит в похожем контексте о “размежевании”[45]) означает, с одной стороны, “конститутивную противоположность” внутри самой личности, т. е. “перво-разделение” (Ur-teilung), составляющее основную форму жизни. С другой стороны, понятия “расчленения”, “перво-разделения”, “размежевания” указывают на сохранение, если и не цельного единства, то, по крайней мере, некой соединенности, т. е. взаимосвязи разделенности и структурности. “Первично данное — это дифференцированная соединенность, в качестве каковой жизнь обнаруживает себя” (38). “Я узнаю себя на опыте соединенным и разделенным одновременно” (11). Сущность жизненной стихии в том и состоит, чтобы обнаруживать себя. Жизнь — это экспликация. Но “фатальность всякой историчности” (54) заключается в том, что такое самообнаружение “единой жизненной полноты” возможно не в ее целокупности, а лишь через “разобщение” (53). Это означает, что признаваемая Йорком (в согласии с Дильтеем) троичность психической структуры (мышление, чувство, воля) выражается всегда лишь односторонне (“разобщенно”), поскольку всякий раз преобладает лишь одна сторона структуры. Йорк называет такое “первично данное отношение, согласно которому обнаружение единой жизненной полноты возможно не иначе, как через разобщение, в то время как жизненная стихия стремится к проявлению целиком” — “главным мотором” и “центральным беспокойством жизненной стихии” (53). Процесс разобщения, возникающий из “фатальной необходимости артикуляции”, назван здесь “абстракцией”, правда, не в смысле противоположности конкретному, а в смысле “отвлечения от”, т. е. отвлечения от иных возможностей обнаружения. Йорк употребляет слово “абстракция” постоянно вместе с предлогом “от”, как, например, в словосочетании “абстракция от сферы ощущений”[46]. При этом, однако, различаются жизненно-практическая абстракция, каковой оказывается любое проявление жизни, и абстракция, стремящаяся к “восстановлению единства” в форме рефлексии (153). Философии свойственен мотив “интеллектуального самоутверждения” (84): “Ощущение времени, чувство преходящести, ощущение зависимости как момент воли, пестрое многообразие явлений — все эти определенности трех основных психических функций есть как бы вызов философскому побуждению, каковое, стремясь выйти по ту сторону жизни, ищет достоверности самого себя” (66). 2. Прозвучавшая здесь тема, что мышление стремится “выйти по ту сторону жизни”, представляет собой одну из важнейших точек соприкосновения в философии обоих друзей. То, что мышление не может взглянуть на жизнь со стороны, ибо само есть лишь один из аспектов жизни, является одним из чаще всего повторяемых положений в сочинениях Дильтея. Имеет ли Йорк в виду то же самое? По поводу процитированной формулировки трудно заранее сказать, в положительном ли или отрицательном смысле идет речь о возможности выйти по ту сторону жизни. Это представляется тем более сложным, что данная формулировка используется Йорком в другом контексте в очевидно положительном смысле: “Лишь активная установка способна выйти по ту сторону жизни”[47]. Правда, однозначный ответ мы можем получить во “Фрагменте 1891 г.”, где сказано: “Такова метафизическая тенденция, притязающая на то, чтобы выбраться по ту сторону жизни посредством мышления, каковое само есть проявление и манифестация жизни. Такая гипертрофированность проективного фактора не может не потеряться в пустоте”[48]. В то время как подобная заносчивость мышления однозначно отвергается Йорком, он все чаще подчеркивает необходимость того, что мышление должно выйти по ту сторону, но не жизни, а самого мышления: “Мы должны, пусть даже в созерцании, повторить жизненный эксперимент в обратном направлении, чтобы познать отношения обусловленности жизненных результатов. <...> Так мышление должно стремиться выйти по ту сторону самого себя”[49]. Такова, в совершенном согласии с Дильтеем, главная философская задача — просветить объективации жизненной стихии на предмет ее самой. В этом, не в последнюю очередь, состоит и задача деструкции метафизики. Если метафизика со своими категориями субстанции, причинности, сущности, бытия и т. д. притязает на то, чтобы обосновать жизнь на конструкции, то деструкция, предпринимаемая философией жизни, стремится привести мышление к выходу по ту сторону самого себя таким образом, что все метафизические категории предстанут производными от жизни. Именно в таком смысле Дильтей прослеживал во второй книге своего “Введения в науки о духе” период господства и упадка метафизики как основания наук о духе. В конце этой книги категории субстанции и причинности лишаются своей обосновывающей функции, поскольку они выводятся из “полнокровного живого самосознания, испытывающего воздействие другого”[50]. В текстах, ставших нам доступными с 1982 г. (упомянем и здесь о новой стадии исследований) и относящихся к продолжению “Введения” (в первую очередь фрагмент “Жизнь и познание”), эта мысль находит дальнейшее развитие. Дильтей считает “источник всех категорий поставленным с ног на голову”[51], если категории означают обоснование, а не выражение жизненной взаимосвязи. В таком же смысле Йорк выводит все логические процедуры из “форм жизненной установки” и говорит даже о бытии как о “частичной манифестации жизни” или как о “производной от жизни”[52]. “Бытие — это результат жизни”[53]. В этом обращении к первичной стихии жизни как истоку всех эксплицитных актов и, не в последнюю очередь, логических операций суждения и заключения[54], Йорк и Дильтей совместно основали ту тенденцию философии жизни и герменевтики к “расплавлению” готовых результатов культуры, что на свой манер преследовал Ницше. Ученик Дильтея Георг Миш пошел по этому пути дальше, разработав программу “герменевтической логики”, в которой мир выражений “из ложной предметности некого независимого состава возвращается в динамическую взаимосвязь ‘переживания, выражения и понимания’”[55]. 3. Если в этой совместной концепции деструкции метафизики мы видим согласие мысли Дильтея и Йорка, то в другой концепции, в отношении которой тоже, казалось бы, существует близкое сродство взглядов, обнаруживается расхождение невиданных размеров. Мы имеем в виду типологию мировоззрений или в терминологии Йорка установок или типов сознания. Как известно Дильтей, особенно в последнее десятилетие своей жизни, старался устранить один опасный вывод исторического сознания, а именно релятивизм и скептицизм, возникающие перед лицом анархии философских ответов на загадку жизни. Он сводил многообразие философских систем к трем основным типам, обозначив из как “натурализм”, “идеализм свободы” и “объективный идеализм”[56]. Эти три формы он представлял подобно горной цепи[57], протянувшейся через всю историю западной философии и в своей типической общности представленной отдельными вершинами. Так, в типе “натурализма” он объединил изначально научно ориентированное мышление, занимающееся познанием закономерных взаимосвязей природы и человеческого мира. Под “идеализмом свободы” Дильтей понимает такой идеализм, которому, в первую очередь, присуще этическое рассмотрение свободы и нравственной автономии личности, т. е. приоритет идеального над механизмом природы. “Объективный идеализм” Дильтей в одном из первых набросков, высказанных Йорку, называет “философией конгениального понимания мира”[58]. Это большая семья пантеистических или панентеистических мыслителей и поэтов, которым принадлежала особая симпатия Дильтея и с которыми он, как показывают его юношеские дневники, чувствовал особое сродство. Принцип упорядочения, призванный уменьшить сложность казалось бы хаотического многообразия, Дильтей выводит из трехчленного деления психической структуры — в натурализме преобладает когнитивная направленность на все, что фиксируемо в законах; в идеализме свободы выражается волевое отношение к миру в его инобытии; в объективном идеализме объективируется чувство сродства со всем живым. Таким образом, все мировоззрения в философии, религии и искусстве высказывают всякий раз три стороны психической структуры во все новых и новых экспликациях жизни, сопряженной с миром. На первый взгляд, кажется, что Йоркова типология установок сознания теснейшим образом связана с Дильтеевым учением о мировоззрении. Ведь и Йорк исходит из основных психических функций, каковые в их “абстракции” и “разобщении” становятся всякий раз господствующими факторами в отношении жизненной стихии к миру. Однако первое решающее отличие от Дильтея состоит в том, что установки сознания образуют не горные цепи мысли, проходящие параллельно через всю историю, а характерные для разных эпох основные положения, сменяющие друг друга в ступенчатом движении истории. Развертывание жизненной стихии осуществляется посредством смены установок сознания во всемирно-историческом масштабе: если у греков преобладало когнитивно-”окулярное” отношение к миру в его наглядных образах, в результате чего только и стала возможной наука, то отношение к миру у римлян изначально определено волей и выражается в представлениях о юридическом порядке и определениях цели. К этим “фазам сознания”[59], для которых Йорк находит некоторые параллели в индийской и иудейской культурах, присоединяется третья — христианство, в котором “была признана спонтанность чувственной жизни”[60]. Вот эта третья установка сознания — для Йорка важнейшая, ибо она только и делает возможной историчность — полностью отличается от своего подобия, объективного идеализма Дильтея, за исключением может быть лишь формального определения, что и то и другое есть экспликации чувственного компонента психической структуры. Однако если для Дильтея антично-языческое наследие ожило вновь в образах Джордано Бруно, Спинозы, Шефтсбери, Гердера и Гёте, а в романтизме — у Гегеля и Шеллинга обрело свою новую объективацию и затем, уже в научной форме, проявилось в выделении созерцания в морфологическом аспекте пробуждающегося исторического сознания, то для Йорка вся линия этой традиции была лишь побочным эстетическим течением в русле истории, которое с начала Нового времени определяется механицизмом и материализмом. Если для Дильтея чувственный компонент представляется одной специфической формой посюсторонности, которая не стремится разгадать загадку природы или подчинить ее суверенной воле, а лишь сознает себя в согласии с природой, то Йорк выделяет в ощущении, выраженном Реформацией, момент отмирщения [Entweltlichung] сознания[61]. Христианство тоже не стремится к овладению миром в окулярных образах и его подчинению юридическим уставам. Но оно и не становится в ряд в гармоничном хороводе образов, а уходит в себя. “Здесь в проекции ощущения происходит радикальное самоотчуждение. <...> Совокупная функциональность [т. е. три основные функции. — Ф. Р.] в ее высшей жизненности оказывается как бы направленной против самой себя и на точку отнесенности, каковая не является, и даже не может быть чем-то данным, — на Бога” (104). О нем сказано, что он “представим, не будучи объектом, что его волят, не будучи психофизически мотивированными, что он ощущается, не будучи ощущаемым. Это отношение, какое в категории субстанции догматически выражается как транссубстанциальность, в чувстве — как новая жизнь, а по своему происхождению — в символе нового рождения” (там же). Для Йорка подлинный представитель такой новой установки сознания — Лютер. Характеристика христианского типа сознания, постоянно воспроизводимая в различных сочинениях Йорка, подчеркивает всякий раз интенсивность жизни, “жизненность”. Христианская религия — это “высшая”, “абсолютная” жизненность[62], “фактор независимости чувства постигается и чувствуется здесь, соразмерно свободной от мира жизненности, как конструктивная сила”[63]. Правда, Йорк подчеркивает в “Типе сознания и истории”, что христианство занимает его не в качестве религии, а в качестве типа сознания[64]. Решающим в нем является момент признания “спонтанности чувственной жизни”, в силу которой “устраняется закон окулярности и отпадает направленность на образную форму”[65]. “Возникшая с христианством психическая возможность выйти за пределы бытия в интимнейшую жизненность” имела следствием то, что “рассудочная образность и институциональная телесность растворилась, освободив внутреннюю силу души”[66]. Это растворение внешности и пространственности силой чувственной жизненности, выходящей за пределы оформленности сугубо окулярных определений, не означает, однако, чистой деструкции, но вхождение в то “невидимое силовое царство мотивов”[67], которой Йорк, вероятно, имеет в виду, когда говорит о виртуальности истории. На это указал уже Фриц Кауфман в своей замечательной интерпретации переписки Дильтея и Йорка. Он, еще не будучи знаком с фрагментом “Тип сознания и история”, правильно определил значение категории “причастность”: в “невидимом силовом царстве мотивов” чувственная жизненность вступает в общение первоначально не посредством наглядно данных сравнений, а посредством “причастностей”[68]. В этом заключен основной point of departure между Дильтеем и Йорком. Между двумя, на первый взгляд, столь тесно сочетающимися типами сознания (христианством и объективным идеализмом) пролегает на самом деле пропасть[69]. Вместе с тем Кауфман замечал, что и Дильтею была хорошо известна идея виртуальности прошлого в Йорковом смысле и что он даже высказывал ее хронологически раньше. В самом деле, Дильтей уже в 1890 г. говорил о воздействиях (например, Лютера, Фридриха Великого и Гёте), которые направлены “на наше собственное я, т. е. на определенность нашего я волей этих могущественных личностей, продолжающей воздействовать и постоянно расширяющей круги своего воздействия в истории”[70]. Как известно, категория причастности — в смысле открытой Хайдеггером и Фрицем Кауфманом перспективы — стала центральной категорией в анализе Гадамером действенно-исторического сознания. Она выражает преодолевающую ложный объективизм взаимосвязь традиции и интерпретатора. “Сопричастно то, что затронуто обращением традиции”[71]. Это может быть описано, также как и у Йорка, квази-теологическим языком: “Но подлинное событие становится таким образом лишь возможным, а именно то, что слово, дошедшее до нас в качестве традиции и требующее, чтобы мы его услышали, действительно затронет нас, причем так, как будто оно обращается к нам и имеет ввиду нас самих”[72]. Гадамер говорит в этой связи (вслед за Гансом Липпсом) о “герменевтической логике вопроса”, которая показывает, “как спрашивающий оказывается спрошенным, и как в диалектике вопроса осуществляется герменевтическое событие”[73]. Интересно, что Гадамер начинает этот ход мысли с исторического рассмотрения проблемы, в котором он толкует полемику мыслителей от Лейбница до Гегеля, Гёте, Шеллинга и Шопенгауэра против одностороннего методологического идеала новоевропейской науки в качестве предыстории своей собственной постановки вопроса. Ибо для современной науки причастность ученого своему объекту представляет как раз помеху объективности и применение такого идеала объективности в науках о духе Гадамер отрицает. Здесь, таким образом, возникает своеобразное пересечение позиций в том, что касается наследия Дильтея и Йорка. С одной стороны, вся постановка вопроса целиком обязана Йорковой концепции сопричастности. С другой стороны, Гадамер сознательно примыкает к той линии традиции, которую Йорк никогда не допускал в качестве самостоятельного типа сознания. Дильтей же причислял эту традицию к основному составу той “горной цепи”, которую он называл “конгениальным пониманием мира”. Такое пересечение возникает, насколько я могу судить, из того, что Гадамер высвободил понятие причастности из сугубо протестантского контекста у Йорка и сблизил его с объективным идеализмом Дильтея. Тем самым он противопоставляет “сознание сродства всего действительного с нами”[74], которое Дильтей считал столь характерным для Гёте, научному отчуждению субъекта от объекта. В одном письме Йорку Дильтей описывал это сознание Гёте как сознание “непостижимости всякой реальности и ее обретения в непросветленной целостности наших сил”[75]. Йорк, похоже, не возражал против такой характеристики и, возможно, даже видел связь между этой “непросветленной целостностью наших сил” и “невидимым силовым царством мотивов”. Таким образом, причастность, расширенная в этом смысле до “сродства всего действительного с нами” образует, при всей противоположности их происхождения, характера и основного научного настроения, точку соприкосновения в мысли обоих друзей-философов |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 29-04-2007 17:08 |
|
Письма Марины Цветаевой Андре Жиду ‹ЯНВАРЬ 1937› Господин Андре Жид, пишет Вам русский поэт, переводы которого находятся у Вас в руках. Я работала над ними шесть месяцев ? две тетради черновиков в 200 стр‹аниц› каждая ? и у некоторых стихотворений по 14 вариантов. Время тут ни при чем — хотя все же нет, чуть причем, быть может для читателя, но я Вам говорю, как собрат, ибо время это работа, которую в дело вкладываешь. Чего я хотела больше всего, это возможно ближе следовать Пушкину, но не рабски, что неминуемо заставило бы меня остаться позади, за текстом и за поэтом. И каждый раз, как я желала поработить себя, стихи от этого теряли. Вот один пример, среди многих, написанные стихи: ...Pour ton pays aux belles fables Pour les lauriers de ta patrie Tu delaissais ce sol fatal Tu t’en allais m’otant la vie [1], 4-я строфа: Tu me disais: — Domain, mon ange, La-bas, au bout de l'horizon, Sous l'oranger ch arge d'oranges Nos coeurs et levres se joindront [2]. Дословный перевод: Tu me disais: A l'heure de notre rencontre — Sous un del etenellement bleu — A l’ombre des olives — les baisers de l’amour — Nous reunirons, mon amie, a nouveau [3]. Итак, во французской прозе: А l’ombre des olives nous unirons, mon amie, nos baisers a nouveau [4]. Во-первых, по-русски, как и по-французски, соединяют уста в лобзанье, а не лобзанье, которое есть соединение уст. Значит Пушкин, стесненный стихосложением, позволяет себе здесь «поэтическую вольность», которую я, переводчик, имею полное право не позволять себе, и даже не имею никакого права себе позволить. Во-вторых, Пушкин говорит об оливковом дереве, что для северного человека означает Грецию и Италию. Но я, пишущая на французском языке, для французов, должна считаться с Францией, для которой оливковое дерево, это Прованс (и даже Мирей). Что же я хочу? Дать образ Юга дальнего, юга иностранного. Поэтому я скажу апельсиновое дерево и апельсин. Вариант: Tu me disais: sur une rive D'azur, au bout de l'horizon Sous l’olivier ch arge d’olives Nos coeurs et levres se joindront [5]. Но: оливковое дерево наводит на мысль об ином союзе, чем союз любви: о дружественном союзе, или о союзе Бога с человеком... вплоть до S. D. N., а никак не о союзе любви (или любовном единении). Второе: плод оливкового дерева мал и тверд, тогда как апельсин всегда неповторим и создает гораздо лучше видение ностальгии (по-русски тоски) любовной. Вы понимаете меня? И еще одна подробность: апельсиновое или лимонное дерево не существует по-русски в одном слове: это всегда дерево апельсина, дерево лимона. Таким образом Пушкин не захотел дать южное дерево, или даже Юг в дереве и у него не оставалось выбора, поэтому он взял иностранное слово «оливковое дерево» и переделал его в русское слово «олива». Если бы апельсиновое дерево существовало, он несомненно выбрал бы его. Итак: Tu me disais: — Demain, cher ange, La-bas, au bout de l’horizon, Sous l’oranger ch arge d’oranges Nos coeurs et levres se joindront [6]. Ангел мой родной — этого нет в тексте, нет в этом тексте, но это речь целой эпохи, все, мужского или женского рода, все, пока они любили друг друга были: ангел мой родной, даже среди женщин, даже среди друзей; ангел мой родной! слова бесполые, слова души, наверняка произнесенные женщиной, которую Пушкин провожал, прощаясь с ней навсегда. И еще одна мелкая подробность, которая, быть может, заставит Вас улыбнуться. Пушкин был некрасив. Он был скорее уродом. Маленького роста, смуглый, со светлыми глазами, негритянскими чертами лица — с обезьяньей живостью (так его и называли студенты, которые его обожали) — так вот, Андре Жид, я хотела, чтобы в последний раз, моими устами, этот негр-обезьяна был назван «ангел мой родной». Через сто лет — в последний раз — ангел мой родной. Читая другие переводы, я вполне спокойна за ту вольность, которую я себе позволила. Вот еще один пример моей неволи Прощанье с морем, строфа 6: Que n’ai — je pu pour tes tempetes Quitter ce bord qui m’est prison! De tout mon coeur te faire fete, En proclamant de crete en crete Ma poetique evasion [7]. Дословный перевод: Je n'ai pas reussi a quitter a jamais — Cet ennuyeux, cet immobile rivage — Te feliciter de mes ravissements Et diriger par dessus tes cretes — Ma poetique evasion [8]. Переложение первое и соблазнительное: 1. Que n’ai je pu d'un bond d'athlete Quitter ce bord qui m'est prison... Пушкин был атлетом, телом и душой, ходок, пловец и т. д. неутомимый (Слова одного из тех, кто позже положат его в гроб: это были мышцы атлета, а не поэта.) Он обожал эфеба. Это было бы биографической чертой. Во-вторых: прыг и брег. Соблазнительное видение полубога, наконец освободившегося, который покидает берег одним прыжком, единственный, и оказывается в середине моря и воли. (Вы меня понимаете, ибо видите это.) Тот Пушкин, сдержанный всей тупостью судьбы. Царя, Севера, Холода — освобождающийся одним прыжком. И, в-третьих (и это во мне только третье:) звук, созвучье слов: прыг и брег, эта почти-рифма. Так вот, Андре Жид, я не поддалась соблазну и, скромно, почти банально: Que n'ai — je pu pour tes tempetes Quitter ce bord qui m'est prison! [9] Ибо 1) атлет перекрывает все, всю строфу — мы ее кончили, а атлет еще продолжает свой прыжок, мой атлет перекрывает всего поэта в Пушкине, моего Пушкина — всего Пушкина, его, Пушкина, и я не имею на него права. Я должна, мне пришлось — в себе задавить. Второе: это романтическое стихотворение, самое романтическое, которое я знаю, это — сам Романтизм: Море, Рабство, Наполеон, Байрон, Обожание, а Романтизм не содержит ни слова ни видения атлета. Романтизм, это главным образом и повсюду — буря. Итак — откажемся. (Это было одним из самых для меня трудных (отказов) в моей жизни поэта, говорю это и я в полном сознании, ибо мне пришлось отказываться за другого.) Дорогой Жид, письмо стало длинным, и я бы никогда его не написала другому французскому поэту, кроме Вас. Потому что Вы любите Россию, немного с нами знакомы, и потому что стихи мои уже в Ваших руках, хотя не я Вам их вручила, — и это чистая случайность (которую по-французски предпочитаю писать через Z: hazard). Чтобы Вы могли сориентироваться на меня, как личность: десять лет назад я дружила с Верой, большой и веселой Верой, тогда только что вышедшей замуж и совершенно несчастной. Я была и остаюсь большим другом Бориса Пастернака, посвятившего мне свою большую поэму 1905. Не думаю, чтобы у нас были другие общие друзья. Я не белая и не красная, не принадлежу ни к какой литературной группе, я живу и работаю одна и для одиноких существ. Я — последний друг Райнера Мария Рильке, его последняя радость, его последняя Россия (избранная им родина)... и его последнее, самое последнее стихотворение ELEGIE fur Marina которое я никогда не обнародовала, потому что ненавижу всенародное (Мир это бесчисленные единицы. Я — за каждого и против всех). Если Вы знаете немецкий и если Вы — тот, которому я пишу в полном доверии, я Вам эту элегию пошлю, тогда Вы лучше будете меня знать. ________ (Официальные данные) Не зная русского языка. Вы не можете мне доверять, что касается точности русского текста, я и не хочу, чтобы Вы мне доверяли, поэтому скажу Вам, что: Поэт, биограф-пушкинист Ходасевич (которого все русские знают) и критик Вейдле ручаются за точность моих переводов. До свиданья, Андре Жид, наведите справки обо мне, поэте, спросите у моих соотечественников, которые кстати меня не очень любят, но все уважают. Мы получаем тольхо то, чего хотим и чего стоим. Кланяюсь Вам братски Марина Цветаева Р. S. Я уже не молодая, начинала я очень молодой и вот уже 25 лет как я пишу, я не гоняюсь за автографами. (К тому же Вы можете и не подписываться) Р. S. Переводы эти, предъявленные критиком Вейдле Господину Полану, редактору N‹ouvelle› R‹evue› F‹rancaise› ‹...› были им отвергнуты, по той причине, что они не позволяли дать себе отчет о гениальности поэта и являются, в целом, лишь набором общих мест. Если бы он мне сам сказал, я бы ему ответила: Господин Полан, то что Вы принимаете за общие места, является общими идеями и общими чувствами эпохи, всего 1830 г., всего света: Байрона, В. Гюго, Гейне, Пушкина, и т. д. и т. д. Александр Пушкин, умерший сто лет назад, не мог писать как Поль Валери или Борис Пастернак. Перечитайте-ка ваших поэтов 1830, а потом расскажите мне о них. Если бы я Вам дала Пушкина 1930, Вы бы его приняли, но я бы его предала. _______________________________________________________________________ 1. Для берегов отчизны дальней Ты покидала край чужой; В час незабвенный, в час печальный Я долго плакал пред тобой. (А. С. Пушкин). (Обратный перевод с французского здесь и далее В. Лосской) Ради отчизны с прекрасными сказками, Ради своей родины, Ты покидала край роковой, Оставив меня безжизненным. 2. Ты говорила: «В день свиданья Под небом вечно голубым, В тени олив, любви лобзанья Мы вновь, мой друг, соединим». (А. С. Пушкин) 3. Ты мне говорила: в час нашей встречи — Под небом вечно голубым — В тени олив — лобзанья любви — Нас вновь объединят. 4. В тени олив мы соединим, друг мой, наши лобзанья вновь. 5. Ты мне говорила: на лазурном берегу, На краю горизонта, Под деревом, отягченным оливками, Наши сердца и уста соединятся. 6. Ты говорила мне: завтра, ангел мой родной, Там на краю небосвода, Под деревом, отягченным апельсинами, Наши сердца и уста соединятся. 7. К морю, строфа 6: Не удалось навек оставить Мне скучный, неподвижный брег, Тебя восторгами поздравить И по хребтам твоим направить Мой поэтический побег! (А. С. Пушкин). 8. Мне не удалось покинуть навсегда — Этот скучный неподвижный берег —Чествовать тебя своими восторгами — И направить поверх твоих хребтов — Мой поэтический побег. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 29-04-2007 19:50 |
|
“...Вы спрашиваете, хорошие ли у Вас стихи. Вы спрашиваете меня. До меня Вы спрашивали других. Вы посылаете их в журналы. Вы сравниваете их с другими стихами и тревожитесь, когда та или иная редакция их отклоняет. Итак (раз Вы разрешили мне Вам посоветовать), я попрошу Вас всё это оставить... Есть только одно-единственное средство. Уйдите в себя. Испытуйте причину, заставляющую Вас писать; проверьте, простираются ли её корни до самой глубины Вашего сердца... — И если из этого оборота внутрь, из этого погружения в собственный мир получатся стихи, тогда Вам и в помыслы не придёт кого-нибудь спрашивать, хорошие ли это стихи. Вы также не попытаетесь заинтересовать своими вещами журналы, ибо они станут для Вас любимым, кровным достоянием, куском и голосом собственной жизни. Произведение искусства хорошо, когда вызвано необходимостью. В природе его происхождения — суждение о нём: нет другого” (Р.-М. Рильке. Письма к молодому поэту // Рильке Р.-М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М., 1971. C. 185). |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 30-04-2007 14:44 |
|
Ганеман - Бённингхаузену "Дорогой друг, Я с величайшим удовольствием смотрю на Ваш портрет, который хочу присоединить к другим нашим драгоценным картинам. Мни кажется, что замечательное лицо Ваше может только в профиль быть изображено должным образом. Молодая дама, которая была так любезна, что принесла мне его и которая с тех пор уже возвратилась домой, не посидела у нас ни одной минуты. Она обещала придти со своей кузиной на наш музыкальный вечер 10-го августа, но не исполнила своего обещания, а потому я не имел случая повидаться с ней ещё раз и расспросить её относительно Вашего семейного благополучия. Вы можете быть уверены, что успешная Ваша практика доставляет мне большое удовольствие, я жалею только; что у Вас чересчур много пациентов, хотя и у меня самого их немало. Нам необходимо иметь возможность и отдыхать немного после тяжкой работы, как бы утешительна она ни была для нас. Неужели молодые врачи в Вашем округе никогда не пожелают испытать такого счастья, какое испытываем мы, содействуя благополучию наших страждущих собратьев? Впрочем, и здесь подобные переходы в наш лагерь бывают редки. Да поможет нам Бог! Я не отвергаю, что нарывы в кости бывают обыкновенно очень трудно излечимы. Ангустура часто приносить пользу. Мне кажется, что нарывы эти бывают двоякого характера: один требует основного средства, каковы калекарея и гепар сульфур; другой — более кислот, каковы ацидум нитрикум, силицея и ацидум фосфор. На это последнее средство можно найти намёк во втором издании "Хронических болезней (симпт. ацидум фосфор., кажется, № 613). От азафетиды я редко получал пользу. Купрум и ангустура были также восхваляемы для очень слабых людей. Не следует забывать арнику. При паршах на голове стафизагрия редко обманывала мои ожидания, особенно в очень высоких делениях. Расследование относительно того, не было ли заражения, ведет лишь к потери времени и труда; во всяком случае, узнаёшь лишь половину, и, кроме того, присутствие наследственной псоры несомненно. Я с искреннним сожалением услыхал о неблагодарности Готье. У меня было много подобных опытов, так что теперь я доверяю лишь тем, кто ревностно следует за мной. Тех, у кого я не замечаю чрезвычайного стремления к истине, я предпочитаю отстранять и задаю им самые трудные задачи, чтобы заставить их глубже изучить нашу науку и быть в состоянии практиковать её. Это многих обескураживает, но зато, если после этого они всё-таки остаются верными своей цели, я протягиваю им руку помощи и всё идёт хорошо. Если у них достаточно сердечной доброты, они будут благодарны тому, кто научил их божественному искусству. Немецкие гомеопаты уже стали на такую низкую ступень, что ниже нельзя. Теперь, как я слышал, они начинают вдумываться в прошлое и постепенно подвигаются вперёд. Я не имею с ними никакого дела; будущий век будет более способен понять, что всего полезнее для благосостояния человечества. Я очень желал бы видеть когда-нибудь Ваш реперторий изданным в одном томе, без разделения между противопсорными средствами и другими, хотя и в настоящем виде oн очень полезен. Как только я найду случай, я пошлю Вам с кем-нибудь хорошую гравюру, изображающую моё лицо, и кое-какие другие подобные вещи. Меня этот раз обманули. В конце сентября пришла к нам вторая г-жа Винтчен и, стоя в нашей прекрасной, обширной гостиной, не присев ни на минуту и даже не удостоив взглядом находящиеся там замечательныя картины, очень быстро и многоречиво рассказала, что кузина её уже уехала, не найдя возможным вторично зайти в нам; что сама она предпринимает короткое путешествие, но вернётся в октябре и тогда зайдёт к нам, чтобы взять всё, что мы пожелаем послать Вам. Сказав это, она ушла прежде, чем я успел что-либо спросить про Вашу уважаемую семью. Обещания своего она не исполнила и больше не пришла к нам. Да будет с Вами Господь и да дарует Он Вам и дорогой семье Вашей наибольшее земное счастье! Мы оба здоровы и счастливы, несмотря на всю тяжесть нашей работы, и любим друг друга, как подобает добрым детям. Ваш (подписано) Самуил Ганеман. Париж, 23-го октября 1840 г." |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 05-05-2007 08:35 |
|
БЕНДЖАМИНУ БЕЙЛИ 22 ноября 1817 г. Летерхед Дорогой Бейли, Мне хочется как можно скорее разделаться с первой половиной этого нижеследующего письма, ибо дело касается бедного Крипса. - Человека с такой душой, как твоя, письмо подобное хейдоновскому должно было задеть очень больно. - Что чаще всего приводит к ссорам в нашем мире? Все обстоит очень просто: встречаются люди с разным складом ума и им недостает времени понять друг друга - для того чтобы предупредить неожиданные и обидные выходки противной стороны. - Спустя три дня после знакомства с Хейдоном я уже настолько хорошо изучил его, что не удивился бы выпаду вроде того письма, которым он тебя оскорбил. А изучив, не видел бы причины для разрыва с ним, хотя тебя, вероятно, обуревает такое желание. Я хочу посвятить тебя во все свои размышления о гениальности и о жизни сердца, но полагаю, что тебе досконально известны мои самые сокровенные взгляды на сей счет, иначе наше знакомство не было бы столь продолжительным и ты давно перестал бы дорожить моей дружбой. Попутно я должен высказать мысль, которая преследовала меня в последнее время и усилила мою способность к смирению и покорности. Истина заключается в том, что сила Гения действует на скопище неопределившихся умов подобно некоему катализатору, ускоряющему химические реакции, однако сам гений совершенно лишен индивидуальности и сложившегося характера; тех же, у кого развита собственная личность, я бы назвал могучими натурами. Однако я очертя голову вторгаюсь в область, которой, вне сомнения, не смогу воздать должное даже за пять лет трудов и в трех томах in octavo {in octavo - в восьмую долю листа (латин.).} - особенно если завести разговор о Воображении. - Посему, мой дорогой Бейли, забудь об этом неприятном деле; если возможно, - забудь - беды никакой не случится, - уверяю тебя. На днях я напишу Крипсу с просьбой извещать меня время от времени о себе письмом, где бы я ни находился, - и все пойдет на лад; так что гони прочь раздражение и не думай о холодности, на которую ты натолкнулся со стороны Хейдона. Будь спокоен, мой дорогой друг! Как бы я желал убедиться в том, что всем твоим горестям настал конец и что твои минутные сомнения относительно достоверности воображения оказались столь же преходящими. Я не уверен ни в чем, кроме святости сердечных привязанностей и истинности воображения. То, что воображению предстает как Красота, должно быть истиной - не важно, существовала она до этого или нет; ибо все наши порывы, подобно Любви, способны, как мне кажется, в высших своих проявлениях порождать Красоту - подлинную ее сущность. Кстати сказать, мои заветные размышления на эту тему должны быть известны тебе из моей первой книги стихов и по той песне, которую я послал тебе в предыдущем письме: и то и другое - попытка таким вот способом уяснить себе эти вопросы. Воображение можно уподобить сну Адама: он пробудился и увидел, что все это - правда. Я тем ревностней бьюсь над решением этой задачи, что до сих пор не в состоянии постигнуть, каким образом можно придти к истине путем логических рассуждений, - и все-таки, наверное, это обстоит именно так. Неужели даже величайшим философам удавалось достичь цели, не отстранив от себя множества противоречий? Как бы то ни было, я за жизнь чувств, а не мыслей! Жизнь - "видение в образе Юности", тень грядущей действительности; и я все более укрепляюсь в другом моем излюбленном тезисе - в том, что. нам суждено испытать земное счастье заново, только еще более прекрасное. Однако подобный удел может выпасть только на долю тех, кто упивается чувством, а не устремляется жадно за истиной, подобно тебе. Притча о сне Адама тут как нельзя более уместна: она словно бы служит подтверждением того, что воображение и его запредельный отблеск - это то же самое, что человеческая жизнь и ее духовное повторение. Но, как я уже говорил, человек, наделенный даже не слишком богатым воображением, вознаграждается тем, что тайная работа фантазии то и дело озаряет его душу. Сравним великое с малым: не случалось ли тебе, услышав знакомую мелодию, спетую дивным голосом в дивном уголке, пережить снова все те же мысли и догадки, которые посещали тебя тогда, когда ты впервые услышал этот голос? Вспомни: разве ты, мысленно рисуя себе лицо певицы, не воображал его себе в минуту восторга более прекрасным, нежели оно могло быть на самом деле? Тогда, высоко вознесенному на крыльях воображения, тебе казалось, что реальный образ совсем близко от тебя и что это прекрасное лицо ты должен увидеть? О, что это за мгновение! Но я то и дело отклоняюсь от темы: бесспорно, сказанное мной выше не вполне приложимо к человеку со сложным мышлением, наделенному воображением и вместе с тем исполненному заботы о его плодах, - к человеку, который живет и чувствами, и рассудком и ум которого с годами не может не стать философским. У тебя по-моему именно такой ум; поэтому для полноты счастья тебе необходимо не только вкушать тот божественный нектар, который я бы назвал воспроизведением наших самых возвышенных мечтаний о неземном, но и расширять свои познания, постигая все сущее. Я рад, что твои занятия успешно продвигаются: до пасхи ты покончишь со своим нудным чтением - и тогда... Хотя мир полон невзгод, у меня нет особых причин думать, что они слишком мне досаждают. Полагаю, Джейн и Марианна лучшего мнения обо мне, чем я заслуживаю. Право же, я не считаю, что болезнь брата связана с моей: подлинная причина известна тебе лучше, чем им, и мне вряд ли придется мучиться подобно тебе. Ты, вероятно, одно время полагал, что на земле существует счастье и что его можно обрести рано или поздно: судя по твоему характеру, ты вряд ли избежал подобного заблуждения. Не помню, чтобы я когда-нибудь в жизни полагался на счастье. Я и не ищу его, если только не испытываю счастья в данную минуту: ничто не трогает меня дольше одного мгновения. Закат утешает меня всегда; и если воробей прыгает под моим окном, я начинаю жить его жизнью и принимаюсь подбирать крошки на тропинке, усыпанной гравием. Вот первое, что приходит мне в голову при известии о постигшем кого-то несчастье: "Ничего не поделаешь, зато он испытает радость от того, что измерит силу своего духа". И я прошу тебя, дорогой Бейли, коли впредь тебе случится заметить во мне холодность, приписывай это не бездушью, но простой рассеянности. Поверь, подчас целыми неделями я пребываю в полнейшем равнодушии, пока не начинаю сомневаться в искренности собственных чувств и принимать всякое их проявление за вымученные театральные слезы. - Моему брату Тому гораздо лучше: он собирается в Девоншир, куда я отправляюсь следом за ним. Сейчас я только что прибыл в Доркинг - переменить обстановка подышать воздухом и пришпорить себя для окончания поэмы, в которой недостает еще 500 строк. Я оказался бы здесь днем раньше, но Рейнолдсы убедили меня задержаться в городе, чтобы навестить твоего приятеля Кристи. Там были Райс и Мартин - мы рассуждали о привидения; Я поговорю с Тейлором и все тебе перескажу, когда, даст бог, приеду на рождество. Непременно разыщу номер "Экзаминера", если удастся. Сердечный привет Глейгу. Привет тебе от братьев и от миссис Бентли. Твой преданный друг - Джон Китс. Хочется сказать о многом - стоит только начать, и уже не остановиться. Адресуй письма в Бэрфорд-Бридж, близ Доркинга. |
|
|
Tusik Мыслитель Группа: Участники Сообщений: 841 |
Добавлено: 05-05-2007 12:49 |
|
ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ фрагменты писем Примадонну зовут Кайзерихой [Маргарет Кайзер], она дочь повара одного здешнего графа. Очень приятная девчонка. Она недурна на сцене. [...] Голос у нее красивый, не сильный, однако же и не слабый. Очень чистый; хорошая интонация. Ее учитель — Валези. По пению видно, что ее учитель понимает толк в пении и в преподавании. Если она и сбилась со счета пару раз, то мне очень понравилось, как красиво у нее получается Crescendo и Decrescendo. Она медленно поет трели, и это меня очень радует, потому что от этого они яснее и чище. Когда же она захочет их петь быстрее, будет и того легче. из письма к отцу, Мюнхен, 2 октября 1777 г. Я бы охотно поиграл на скрипке больше, но мне так плохо аккомпанировали, что у меня начались колики. из письма к отцу, Аугсбург, 16 октября 1777 г. Вы доставите мне величайшую радость, если теперь со всем усердием примитесь за мою сцену Андромеды "Ah, lo previddi!", ибо, уверяю вас, она очень Вам подходит и принесет Вам успех. Особенно обращаю Ваше внимание на текст. Советую Вам подумать над смыслом и силой слов, всерьез почувствовать себя в положении и состоянии Андромеды, представить себе, что Вы и есть Андромеда. Если Вы — с Вашим чудесным голосом, с Вашей прекрасной дикцией — пойдете по такому пути, то в короткое время непременно станете замечательной певицей. из письма к Алоизии Вебер, Париж, 20 июня 1778 г. Благородным человека делает сердце. И если я - не граф, то в душе моей, возможно, больше чести, чем у некоторых графов. из письма к отцу, Вена, 20 июня 1781 г. В опере поэзия должна быть всего лишь послушной дочерью музыки. Почему везде так нравятся итальянские комические оперы? [И это] при всем убожестве текста! Даже в Париже, чему я сам был свидетель. Потому что в них полностью господствует музыка, и от этого все остальное забывается. Еще больше должна нравиться опера, в которой хорошо разработан сюжет пьесы, слова же написаны только для музыки, а не для того, чтобы понравиться убогой рифмой (которая, видит Бог, никогда не повышала ценности театральной постановки, разве что приносила ей вред). Так те стихи только портят композитору всю idee. Без стихов музыке, конечно, не обойтись, но рифмы ради рифмы — самое вредное. [...] Лучше всего, когда сойдутся вместе настоящий композитор, который в состоянии выполнить свою задачу, и умный поэт, словно истинный Феникс. из письма к отцу, Вена, 13 октября 1781 г. Что касается чудесного красного фрака, который так жестоко щекочет мое сердце, я вы очень попросил Вас сказать, где его достать и как дорого; размышляя только о его красоте, я совсем забыл о его цене. Мне необходимо иметь такой фрак, чтобы он был достоин тех пуговиц, которые я уже давно вынашиваю в своей голове. Я их видел однажды на рынке у пуговичной фабрики Брандау vis a vis Милана. Они из перламутра, по краям разные белые камни, а в центре красивый желтый камень. Я хотел бы иметь все, что хорошо, натурально и красиво! Почему те, кому это не доступно, дали бы за это многое, а тем, кто может это иметь, это не нужно? из письма баронессе Марте Элизабет фон Вальдштеттен Вена, 28 сентября 1782 г. Я не думаю, что итальянская опера продержится долгое время. Я отдаю предпочтение немецкой. Даже если это будет стоить больших трудов, все равно мне это больше по душе. У каждой нации есть своя опера. Почему же у нас, у немцев, ее быть не должно? Разве на немецком языке поется хуже, чем на французском или английском? Хуже, чем на русском? из письма к отцу, Вена, 5 февраля 1783 г. В шесть часов я заехал в экипаже за Сальери и Кавальери и отвез их в ложу. [...] Ты не поверишь, как учтивы были они оба; как понравилась им не только музыка, но и либретто, и все вместе. Они оба сказали, что эта опера ["Волшебная флейта"] достойна быть представленной в присутствии величайших из монархов в день величайшего из торжеств и что они охотно слушали бы ее еще и еще, ибо никогда не видали более прекрасного и приятного зрелища. Он [Сальери] смотрел и слушал с полным вниманием — от симфонии до последнего хора. Не было номера, который не вызвал бы у него восклицаний bravo или bello. из письма к жене, Вена, 14 октября 1791 г. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 05-05-2007 16:33 |
|
ПИСЬМО И. С. ШМЕЛЕВА Э2 12/III 1921 г. Симферополь, Казанская, 22, кв. Тренева Многоуважаемый Анатолий Васильевич, Ваша телеграмма, отзвук на крик отчаяния, ободрила меня на миг, но положение наше безысходно. Вот уже три месяца я и жена бьемся о стены, и стены глухи, и ни одного просвета. Мы были в Феодосии, и говорил с нач[альником] особ[ого] отд[ела] 3-й див[изии], я при содействии Вересаева собирал справки и мог узнать одно, м[ожет] б[ыть] ложное, что сын наш жив, что в первой половине февраля выслан куда-то. Мне не могли, не пожелали сказать, куда и когда точно По телеграмме председателя Револ[юционного] трибунала армии затребовано из Феодосии дело сына, но до с[их] пор это дело еще не попало в руки председателя. Одн[им] словом, везде препоны, словно это дело какая-то госуд[арственная] тaйна. Сын мой невинен, я продолжаю это утверждать. Б[ыть] мож[ет] его уже нет в живых, и вот почему тайна повисла над этим делом. Я умолял сказать истину. Мне отвечали - жив. Где же он? Мне не отвечали. Кто есть сильный, кто мог бы заставить сказать правду? Ведь должны же быть нормы! Ведь не можно отнять у отца и матери их естественное право знать о сыне. Это право всегда признавалось властью. Отнять это право - значит на место права поставить бесправие и ужас и жестокость. За что нас терзают? За что убивают медленно и смеясь? За что? Мы голодные, в морозы полуодетые бродим, бродим по крымским дебрям, тычась из города в город, от порога к порогу, устрашаемые требованием пропусков, не имея крова и хлеба, мы ищем своего права, мы отыскиваем след сына, - и везде, везде одно и одно: "Идите туда, там знают, но, по вс[ей] вероятности, вам не скажут". Да, эти именно слова я не раз слышал и спрашивал в ужасе: смеются? О, не верите? Верьте, верьте моему крику. Клянусь - так это. Чтобы добраться из Симфер[ополя] до Феод[осии], нам надо было 5 суток. 8 дней в Феодосии ничего не дали. Нам сочувствовали, но не могли помочь люди сердца. Кто может помочь? Москва. Но далеко Москва. Помогите! Ведь один приказ, один решит[ельно] приказ. Ведь не камень же я придорожный. Ведь я же писатель русский, хоть и бывший. Я писал Горькому. Что же, или я ошибся? Вчера я добился встречи с Поляковым, предревком[а] Крыма. Я подал ему справку. Я просил. Мне обещали, хотя и не совсем уверенно. Так кто же может здесь, если и высшее лицо, высший представитель Сов[етской] вл[асти] в Крыму неуверенно отвечает. Остается посл[едний] путь - видеть и просить Реденса, подчиненного Вс[ероссийской] ЧК. Но он на эти дни выехал в Керчь. Это последнее. Помогите же, во имя человечности. Что пережито нами за эти 4 мес[яца], наст[олько] страшно, кошмарно, что не хватит сил и слов - понять, осознать. Ужасом полно оно и уже не вмещает. Надо быть здесь и видеть и знать. Знать, как я знаю, как я видел, как я пережил. Мое горе и мое отчаяние - только ничтожная струйка. О, помогите! Вы - центр. Вы - у власти направляющей. Я буду ждать. Теперь, позвольте, перейти к общему положению, к положению писателей. В Алуште у меня и Ценского местный предревком[а] отобрал мандаты, выданные нам еще в ноябре из Симферополя. Отобрал и сказал: "Будет еще нагоняй тому, кто их выдал". Отбирают последнее достояние. Требуют одеяло, утварь, припасы. Я отдаю последнее, у меня ничего своего, все от добр[ых] людей - и то берут. Я болен, я не могу работать. Я имел только 1/4 ф[унта] хлеба на себя и жену. Если бы не мал[ый] запас муки, я умер бы с голоду. Я не знаю, что будет дальше. Посл[еднюю] рубаху я выменяю на кус[ок] хлеба. Но скоро у меня отнимут и последнее. У меня остается только крик в груди, слезы немые и горькое сознание неправды. Вы знаете - не для потехи имущих писал я книги. Они издаются. А меня гонят, гонят, гонят. За что? Я не был ни врагом, ни другом чьим бы то ни было. Я был только писателем, слушающим голос души своей. Страдания обездоленного народа - вот мое направление, если надо искать направления. Я не считаю себя способным к службе в канцелярии. Я хотел бы остаться тем, кем был. Если я не заслужил похвал, так гонений не заслужил наверное. Так как же мне быть? М[ожет] б[ыть] лучше ехать в Москву и там искать работы? Тогда прошу Вас, руководителя просвещения, помогите. Не откажите затребовать меня с женой, когда мы узнаем правду o сыне, в Москву. М[ожет] б[ыть] я еще смогу быть чем-нибудь еще полезным жизни. У Ценского требовали посл[еднюю] корову, грозя арестом в случае неповиновения. К.А.Тренев, беллетрист, также просит выяснить положение писателей. Он стеснен. Его мал[енькая] квартирка наполнена, каждый день с него требуют то и то. Он бьется с детьми больными, хотя он еще и учитель У меня описали мои 20 книг библиотеки и поручили мне их под ответственность. Мои книги печатает Москва, но я не имею за них ни копейки. Я существую только благодаря вниманию и любви некоторых моих читателей. Я хожу по учреждениям и прошу меня покормить. Мне стыдно. Мне больно. Я добиваю посл[еднюю] обувь. Скоро я паду где-нибудь на улице. У меня выветрилась душа. Помогите. Подумайте, что все эти муки напрасны, неправдой брошены на нас. Я с семьей остались с доверием к власти. Мы не уехали, хоть и могли. За что нас гонят. Есть ли еще правда в России? Должна быть, я не потерял всей веры. О, я так хотел с сыном отдать свои силы на укрепление нового строя! Это я говорю прямо, душой открытой. Дайте же себе труд пяти минут только, чтобы почувствовать наше положение. Вызовите нас, спасите нас, если можете. Помогите узнать о сыне. Силы на исходе. Только на Вас, на представителя культуры моя надежда. Не отнимайте ее. Скоро должно кончиться для меня наказание. Все больше подступает отчаяние. Остается один выход - распорядиться собой самовольно - не жить больше. Только надежда узнать о сыне и удерживает. Умоляю, помогите. Преданный Вам Ив. Шмелев |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 06-05-2007 17:02 |
|
Михаил Кралин Победившее смерть слово Сэр Исайя Берлин и "Гость из Будущего" 2 июня 1981 года, перед самым отъездом из Москвы, я пришел к Лидии Корнеевне Чуковской, в ее квартиру на улице Горького. В этот раз она долго не отпускала меня, оставила обедать, угощала английскими конфетами "After eight" и много рассказывала всяких интересных вещей, в том числе, и о сэре Исайе Берлине и о его встречах с Анной Ахматовой. К тому времени я знал об этом не так уж и много, и вся моя информация была почерпнута из ее "Записок" к тому времени уже опубликованных на Западе. Но в "Записках" рассказывалось о "невстрече" 1956 года, о телефонном разговоре Ахматовой с Берлином (в интерпретации Анны Андреевны). Что касается событий 1945 года, когда Лидия Корнеевна с Ахматовой не встречалась, будучи с ней в ссоре, то о них Чуковская могла судить лишь по позднейшим воспоминаниям Анны Андреевны, а они были предельно скупыми. Но в эту нашу встречу разговор всё время вертелся вокруг сэра Исайи и его визитов к Ахматовой, поскольку Лидии Корнеевне недавно привезли оттиск из иерусалимского журнала, где был впервые напечатан русский перевод его мемуаров1. Она внимательно проштудировала эти воспоминания (о чем свидетельствует ее корректорские поправки в тексте), но в конце концов решила, что этот материал нужнее ее "Юнге" (так она меня обычно называла, когда была в добром расположении духа). И подарила оттиск мне. Ее комментариев по поводу воспоминаний Берлина я не запомнил, кроме, пожалуй, одного, да и то потому, что оно было сказано за обеденным столом: "Анна Андреевна говорила мне, что этот человек, этот сэр Исайя настолько ее очаровал, что ей в уборную сходить некогда было". Вместе с оттиском Лидия Корнеевна подарила мне в тот день еще и свою книгу стихов "По эту сторону смерти" с такой надписью: "Я всё еще по эту сторону и даже собираюсь писать 3 том "Записок". Мише Кралину - в добрый путь. Л. Чуковская 2/VI 81 Москва". Вот откуда у меня точная дата этой встречи. А уже 4 июня я читал вслух эти воспоминания Софье Казимировне Островской у нее на квартире (Ленинград, улица Радищева, дом 17/19, квартира 43). Это значит, что, приехав из Москвы, я, не теряя времени, помчался на улицу Радищева, зная, что Софья Казимировна с нетерпением ждет, чтобы я озвучил воспоминания сэра Исайи, о которых она была уже наслышана. Из наших предшествующих встреч и разговоров я знал, что С.К. была свидетельницей встречи (встреч?) Анны Ахматовой с Берлином и надеялся, что она сможет разрешить возникшие у меня по ходу чтения недоумения и вопросы. Так оно и получилось, и об этом, собственно, и написана эта статья. Софья Казимировна слушала с напряженным и я бы даже сказал, хищным вниманием. Сама она читать в то время уже не могла, но ее слепота нисколько не мешала общению с ней. А в некотором отношении и помогала - во всяком случае, я мог украдкой записывать ее замечания и реплики, которыми она то и дело прерывала чтение. Этими записями (к сожалению, слишком краткими) я пользуюсь и теперь, когда Софьи Казимировны давно нет на свете. Воспоминания сэра Исайи Берлина за двадцать лет, прошедших после их обнародования, ни разу не подвергались не только "проверке на вшивость", но даже элементарному научному комментированию. Фактам, изложенным в них, предпочитают верить безоговорочно, иногда, впрочем, искажая даже эти факты. К примеру, хотя сэр Исайя пишет о своем приезде в Ленинград осенью ("Мы приехали в Ленинград серым осенним днем в конце ноября"), Н.В. Королёва "поправляет" его и переносит дату знакомства Берлина с Ахматовой на декабрь, то есть, на зиму, не считаясь даже со стихами Ахматовой ("И ты пришел ко мне как бы звездой ведом, / По осени трагической ступая")2. А, между тем, сам сэр Исайя вовсе не столь трепетно относился ко всему, им написанному. Вспоминая в конце 70-х годов о событиях тридцатилетней давности, он испытывал, вероятно, определенного рода трудности. Во всяком случае, он не случайно счел нужным сделать такую сноску: "Я никогда не вел дневника, и в этих заметках опирался на то, что помнил непосредственно во время работы над настоящим текстом, или на то, что, как мне помнилось, я хранил в памяти в течение последних тридцати с лишним лет и не раз рассказывал друзьям. Я слишком хорошо знаю, что память, во всяком случае, моя память, - не всегда надежный свидетель событий и фактов. В особенности это касается разговоров, которые я иногда пытаюсь здесь приводить дословно. Могу лишь сказать, что я записал все факты в точности так, как я их помню. Я буду рад любым документальным или иным свидетельствам, в свете которых настоящее изложение сможет быть дополнено или исправлено." Вот этими последними словами я и руководствовался, привлекая к воспоминаниям Берлина свидетельства С.К. Островской. Шли годы. В 1990 году исполнилось 100 лет со дня рождения Бориса Пастернака. Редакция ленинградского журнала "Звезда" подготовила к этой дате специальный юбилейный "пастернаковский" номер. В этом номере, среди прочего, должен был быть напечатан новый перевод воспоминаний сэра Исайи Берлина, сделанный, не без моей инициативы, Натальей Ивановной Толстой, известной переводчицей Набокова и, кстати сказать, давней и доброй знакомой Ахматовой. Надо было получить разрешение на публикацию нового перевода у сэра Исайи. Я обратился к нему с письмом и вскоре получил ответ (посланный не по почте, а переданный мне А.Г. Найманом, который, будучи в Англии, встречался с Берлином): "Глубокоуважаемый г-н Кралин, Благодарю Вас за Ваше любезное письмо и за все хлопоты по переводу и печатанию моих воспоминаний о Пастернаке и Ахматовой. В отношении перевода я целиком доверяю Вашему выбору. Необычайно рад публикации двухтомника Ахматовой таким тиражом и с нетерпением жду Ваших комментариев3. Я уверен, что они не покажутся мне "неуместными" (я имею в виду "Пролог")4, но всё же хотелось бы прочесть их до опубликования. Справку о гонораре (который я хотел бы отдать музею Ахматовой) я послал на имя редактора "Звезды" Геннадия Философовича Николаева. С уважением и благодарностью Исайя Берлин"5. Казалось бы, всё шло хорошо. Перевод воспоминаний сэра Исайи благополучно был напечатан на страницах "Звезды", правда, без моей сопроводительной статьи6. Когда я принес статью в отдел критики, Андрей Арьев сказал, изобразив на своем легко краснеющем лице деланное возмущение: "Как, опять Ахматова?! Ведь у нас был уже ахматовский номер, а этот посвящен Пастернаку, Пас-тер-на-ку, а вы всё лезете со своей Ахматовой!" Дело было, разумеется, не в арьевской "ахматофобии", а в том, что моя статья была полемичной и содержала ряд вопросов к автору мемуаров. А задавать вопросы сэру Исайе Берлину, по мнению Арьева, не полагалось - перед ним полагалось благоговеть. А все-таки жаль, что моя статья тогда не увидела света. Кто знает, а может быть, сэр Исайя не только рассердился бы, а "был бы рад" новым "документальным свидетельствам", которые содержались в моей статье. А теперь вот прошло еще десять лет. Всё утряслось, свидетели ушли, подробности сгладились под натиском времени. Тут самое время вспомнить стихи Анны Ахматовой, написанные в том самом 1945 году, когда произошла встреча с "Гостем из Будущего": Кого когда-то называли люди Царем в насмешку, Богом в самом деле, Кто был убит - и чье орудье пытки Согрето теплотой моей груди... Вкусили смерть свидетели Христовы, И сплетницы-старухи, и солдаты, И прокуратор Рима - все прошли. Там, где когда-то возвышалась арка, Где море билось, где чернел утес, - Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой И с запахом священных роз. Ржавеет золото и истлевает сталь, Крошится мрамор - к смерти всё готово Всего прочнее на земле печаль И долговечней - царственное Слово. Что же случилось за эти годы в контексте интересующей нас темы? В 1994 году бывший генерал КГБ Олег Калугин опубликовал ряд документов из обширного "наблюдательного дела", которое КГБ в течение многих лет вело на Анну Ахматову7. К нашей теме публикация этих документов имеет самое непосредственное отношение. В частности, вопрос о принадлежности Софьи Казимировны Островской к славной когорте осведомителей, который давно не давал мне покоя8, теперь получил документальные подтверждения, хотя Калугин и не назвал С.К. Островскую по имени. Но сопоставление доносов, цитируемых в статье Калугина, и записей в дневнике Островской не оставляет на этот счет никаких сомнений, - другой "польки-переводчицы" в окружении Ахматовой в это время не было. Остается пожалеть, что Калугин сделал достоянием гласности только малую часть из, по-видимому, имеющихся у него в распоряжении материалов "Дела". На самом деле круг агентов-осведомителей, клубившихся около Ахматовой, был более многочисленным, чем мы можем себе представить! Но, до тех пор, покуда опубликована только небольшая часть материалов "Дела", о контактах других персонажей с ведомством на Литейном можно говорить, разумеется, сугубо гипотетически. В 1997 году сэр Исайя Берлин умер, так и не добавив ничего существенного к своим воспоминаниям. Ахматовские материалы из его архива перекочевали в музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, вернувшись в исходное место после длительного заграничного путешествия. Среди прочих реликвий большую ценность представляют книги стихов Ахматовой с ее дарственными надписями сэру Исайе Берлину. Увидев эти книги в витрине выставки новых музейных поступлений, (во время "Ахматовских чтений" в феврале 2000 года), я понял, что в эту статью следует внести существенные уточнения. Дело в том, что до сих пор никто из исследователей не брался точно датировать первый визит Берлина к Ахматовой. Вслед за самим сэром Исайей, датировавшим встречу "серым осенним днем в конце ноября биографы предпочитают не уточнять даты или ориентируются на первое стихотворение из первого цикла стихов, посвященного Берлину. Оно написано 26 ноября 1945 года, но можно ли считать эту дату днем их встречи? Чтобы ответить на этот вопрос, следует прислушаться к стихам: Как у облака на краю, Вспоминаю я речь твою, А тебе от речи моей Стали ночи светлее дней. Так, отторгнутые от земли, Высоко мы, как звезды, шли. Ни отчаянья, ни стыда Ни теперь, ни потом, ни тогда. Но, живого и наяву, Слышишь ты, как тебя зову. И ту дверь, что ты приоткрыл, Мне захлопнуть не хватит сил. Между первой встречей и этим стихотворением существует временная дистанция. Об этом прямо сказано в 3-4 строках: после встречи, когда звучала "речь" героини, прошли "ночи", которые для героя "светлее дней". Стихотворение написано "теперь", а событие имело место "тогда". Но вычислить временную дистанцию между встречей и поэтическим откликом на нее с помощью стихов невозможно. К счастью, Анна Ахматова "задокументировала" день встречи в дарственной надписи на книге своих стихов, подаренной Берлину. Характерно, что первой из подаренных ему книг стала "Азиатка", то есть книга избранных стихов Ахматовой, выпущенная в 1943 году в Ташкенте. Похоже, что в день первой встречи у Анны Андреевны не было других ее книг, кроме этой, привезенной с собой из эвакуации, ведь ее библиотеку и архив сжег бухгалтер, занимавший комнату Ахматовой в ледяные блокадные дни и ночи. Говорю об этом еще и на том основании, что С.К. Островская рассказывала мне, что потом, узнав о предстоящем прощальном визите Берлина, Анна Ахматова загодя к нему готовилась, в частности, собирала у друзей и знакомых свои ранние книги и фотографии. Теперь эти слова нашли и документальное подтверждение: на выставке в Фонтанном Доме я увидел книгу "Четки" с двумя дарственными надписями Ахматовой. Первая, очень скупая, свидетельствует о том, что эту книгу она надписала "С.К.О", то есть Софье Казимировне Островской, 2 апреля 1945 года. Но той недолго пришлось любоваться ахматовским инскриптом: книга была, по просьбе Анны Андреевны, возвращена ей, а затем подарена Берлину с такой надписью: "И.Б. от А.А. 1945. 4 янв. (в день его отъезда)" (Год, конечно, 1946, но эта ошибка понятна; она, кстати, повторена и в надписи на книге "Подорожник", сделанной, видимо, "в один присест": "В дверь мою никто не стучится. Только зеркало зеркалу снится, Тишина тишину сторожит. А. 4 янв. 1945" Но в первую встречу Ахматова имела в запасе, по-видимому, только один ташкентский сборник. Он и был надписан, и благодаря этой дарственной надписи мы можем точно датировать первую встречу: "Исайю Берлину - память встречи - Анна Ахматова 16 ноября 1945 г. Ленинград" Итак, сэр Исайя Берлин переступил порог Фонтанного Дома 16 ноября 1945 года (или даже 15-го). "16-ое" - это, конечно, не "конец ноября", как повествует сэр Исайя в мемуарах, написанных тридцать лет спустя, а, скорее, середина месяца, но таких несовпадений с фактами в воспоминаниях так много, что это не способствует читательскому доверию к ним. Впрочем, тогда Исай Менделевич Берлин не был еще "сэром", как не был, разумеется, и тем стариком с острым недостатком растительности на голове и собачьими складками у губ, каким его можно представить по фотографиям последних лет. Он не был еще автором прославивших его на весь мир работ "Еж и лиса", "Историческая неизбежность", "Четыре эссе о свободе", но уже с успехом занимался русским литературным XIX веком, в частности, Герценом и Тургеневым. Но он был уже человеком, блестяще владеющим искусством беседы, "спикером", говоруном, обладателем особого таланта, или даже своего рода профессии, нынче как будто сходящей на нет. В русском девятнадцатом веке, так любимом Берлином, среди людей подобного сорта современники особо выделяли Тютчева и Вяземского. В этом качестве последний попал даже в стихи Пушкина: У скучной тетки Таню встретя, К ней как-то Вяземский подсел И душу ей занять успел. Благодаря этому таланту, сэр Исайя "успел занять душу" Анны Ахматовой. Именно как говорун, чарователь он сумел заворожить Ахматову9, хотя она и пыталась (во всяком случае, в стихах) сопротивляться его чарам: Ты выдумал меня. Такой на свете нет. Такой на свете быть не может. Но в воспоминаниях сэр Исайя этому своему искусству почти не уделяет внимания. Он скромно почти ничего не пишет о себе, и в результате мы поневоле оказываемся разочарованными и не вполне понимающими Ахматову: а в чем, собственно, дело и почему она так расчувствовалась и разоткровенничалась перед каким-то иностранцем, впервые в жизни его увидев? Возникает вопрос: а что, тема "Гостя из Будущего" возникла у Ахматовой лишь только с приходом к ней в дом сэра Исайи? И был ли Берлин главным и единственным прообразом "Гостя из Будущего"? Главным - возможно, но уж никак не единственным. В ноябре 191З года Анна Ахматова написала короткое стихотворение, ложащееся в ее поэзии как бы прологом к теме "Гостя из Будущего": Простишь ли мне эти ноябрьские дни? В каналах приневских дрожат огни. Трагической осени скудны убранства. Через 32 года трагическая ноябрьская осень, нагаданная в старых стихах, превратилась в реальность (хотя при желании можно и в этой "реальности" обнаружить иные зеркальные временные слои и иных героев) первой встречи с "Гостем из Будущего": И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом, По осени трагической ступая… Но в ахматовском варианте ее поэтической реальности встреч, как правило, фигурирует пять (а не две, как в воспоминаниях Берлина). Уже само название первого из поэтических циклов, обращенных к Берлину, "Cinque" ("Пятерица") означает не только количество входящих в цикл стихотворений, но и нечто большее - по-видимому, количество встреч с героем. У Ахматовой есть произведение, в котором она прямо говорит о "пяти встречах", причем, устами самого героя, который здесь назван "Он". Я имею в виду трагедию "Энума элиш", первая текстологическая версия которой была опубликована мной в журнале "Искусство Ленинграда" под названием "Пролог, или Сон во сне": "Он. Я уже вспоминаю наши пять встреч в страшном полумертвом городе в новогодние дни, когда ты , <мне, пришедшему> в проклятый дом - в твою тюрьму" из своих бедных нищих рук вернешь главное, что есть у человека - чувство Родины, а я за это погублю тебя"10. Сэр Исайя Берлин прочитал "Пролог" в "Искусстве Ленинграда". И - не узнал (или не пожелал узнать себя) в "Госте из Будущего", каким он выведен в этом произведении11. Очевидно, дело здесь не только в вольностях поэтического мышления Анны Ахматовой, но, главным образом, в том, что под "Гостем из Будущего" имеется в виду и другой человек, сыгравший в жизни Ахматовой не меньшую, но гораздо более трагическую роль, чем Берлин. Читатель, думаю, уже догадался., что я веду речь о Владимире Георгиевиче Гаршине. О том, что именно он был, во всяком случае, в начале, основным прототипом "Гостя из Будущего" в "Поэме без героя" уже написала и, на мой взгляд, чрезвычайно убедительно, Э.Г. Герштейн12. Но это касается не только поэмы. "Пять встреч", о которых вспоминает "Он" в "Прологе", происходили "в новогодние дни". Берлин вспоминает, что он "зашел к ней попрощаться пополудни 5 января 1946года, и она подарила ему один из своих поэтических сборников". Подаренных в ту встречу сборников было, положим, не один, а прощальная встреча, о которой вспоминает Берлин, была, по его версии, 5 января, в канун католического Крещенья. (Напомню, что если верить дарственным надписям Ахматовой на д в у х сборниках, он пришел проститься 4 января). Эти дни можно, конечно, назвать "новогодними" , но всё же у Ахматовой речь идет о п я т и встречах, а Берлин упоминает лишь об одной (хотя, в принципе, их могло быть и больше - он ведь не указывает, когда приехал в Ленинград "на обратном пути из Советского Союза в Хельсинки" /15/). Но все же в "Прологе" речь идет, скорее, именно о "пяти встречах" именно "в страшном полумертвом городе" в "новогодние дни" … 1945 года. Есть сведения, что Анна Ахматова встречалась с В.Г. Гаршиным после их разрыва, произошедшего вскоре по приезде Ахматовой в Ленинград в 1944 году. На самом деле разрыв был более долгим и мучительным и далеко не таким быстрым, как это принято считать13. Последние встречи Ахматовой и Гаршина происходили в Фонтанном Доме в канун старого Нового года. Этим днем Ахматова датировала одно свое стихотворение, несомненно связанное с Гаршиным (она называла его иногда "Без даты", быть может, намеренно, чтобы на дату-то внимание и обратили). Напомню его читателям: А человек, который для меня Теперь никто, а был моей заботой И утешеньем самых горьких лет, - Уже бредет как призрак по окрайнам, По закоулкам и задворкам жизни, Тяжелый, одурманенный безумьем, С оскалом волчьим… Боже, Боже, Боже! Как пред тобой я тяжко согрешила! Оставь мне жалость хоть… Стихотворение - одно из самых трагических у Ахматовой. Оно написано (хотя, возможно, было и дописано, и переписано и позже, - недаром ведь "Без даты") после тяжелого, быть может, последнего разговора, расставившего все точки над "и", 13 января 1945 года. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 06-05-2007 17:09 |
|
"Безумье", о котором идет здесь речь, это еще не душевная болезнь В.Г. Гаршина (она придет потом, предсказанная, привороженная словом Ахматовой). Безумьем в данном случае она считает "чужую любовь", которой он, герой, "одурманен". Отсюда и странный, страшный образ - "с оскалом волчьим" - намек на ту, кто его одурманил, соперницу, женщину по фамилии Волкова. Ненависть переплетается в этих стихах с любовью, в невиданном накале страсти. А вот как разрешается этот конфликт, мне не совсем ясно. Если "Ты", перед кем "я тяжко согрешила", это "Бог", к которому троекратно обращается героиня, то и писать (и печатать) "пред Тобой" следует с прописной буквы, как и положено обращаться к Богу. Между тем, во всех изданиях печатается со строчной буквы, что, впрочем, для советских изданий было в порядке вещей, но ведь со строчной буквы "пред тобой" написано и в автографе, а Ахматова, как православная, едва ли могла так обратиться к Богу. Значит это обращение к герою. А если так, то часть вины Ахматова берет на себя, обвиняет прежде всего себя в тяжком грехе, себя, а не любимого! Мне кажется, что к В.Г. Гаршину относятся и два, по крайней мере, стихотворения из цикла "Cinque". Это любовные стихи, которые после окончательного разрыва в "новогодние дни" 1945 года Анна Ахматова уже не могла числить среди посвященных Гаршину, хотя именно в этом качестве их знали и слышали в ее исполнении некоторые общие ее и Гаршина знакомые. Ахматова могла их или уничтожить, или перепосвятить. Она выбрала второе. В 1946 году эти стихи были опубликованы в журнале "Ленинград" в составе цикла "Любовь". Даты двух последних в цикле стихотворений были изменены с той целью, чтобы читатель мог адресовать их тому же герою, которому посвящены три первые стихотворения цикла, то есть, Берлину. Что касается пятого стихотворения, "Не дышали мы сонными маками…" , то в тетради Н.Л. Дилакторской, куда она записывала в 1945 году новые стихотворения Ахматовой под диктовку автора, это стихотворение имеет дату "январь 1944", то есть оно было написано еще в Ташкенте. Не права Н.В. Королева, полагающая, что "дата 1944 г. - ошибка Дилакторской"14. Дело в том, что стихотворение "Не дышали мы сонными маками…" записано Дилакторской д в а ж д ы, в черновом и беловом вариантах, а ошибиться два раза, составляя свой "подпольный" двухтомник под контролем Ахматовой, она не могла. В содержании этого стихотворения нет ни одной детали, непосредственно связанной с Берлином. Н.В. Королева в своих комментариях к Собранию сочинений Ахматовой пишет: "Точные даты под каждым из пяти стихотворений ясно указывают на время общения именно с И. Берлином"15. Но и 6 января, когда якобы написано стихотворение "Знаешь сам, что не стану славить…", и, тем более, 11 января, когда согласно позднейшей "авторской воле" написано "Не дышали мы сонными маками…"16 Берлина уже не было в Ленинграде и он никак не мог общаться с Ахматовой. Правда, в рукописи "Нечета" (РНБ) у этого стихотворения появилось окончание, как бы связывающее его с теми жизненными обстоятельствами, в которых очутилась Ахматова после 14 августа 1946 года: И над этой недоброй забавою Веял ветер пречистых полей И всходило налитое славою Солнце Родины грозной моей. Но это уже относится к области создания авторской поэтической легенды, оставляющей далеко за собой и реальные обстоятельства создания тех или иных стихов, и их истинные датировки, и тех людей, которым они первоначально были адресованы. Стихотворение "Знаешь сам, что не стану славить…" тоже было записано Н.Л. Дилакторской под диктовку Ахматовой в 1945 году. В этой записи стихотворение даты не имеет. Позднее, в "Беге времени", Ахматова поставила дату 6 января 1946 года. Может быть, оно действительно было написано 6 января, но на год раньше, в те "новогодние дни" 1945 года, когда происходили последние свидания Ахматовой с Гаршиным. В этом стихотворении все реалии связаны именно с Гаршиным, а не с Берлином. Знаешь сам, что не стану славить Нашей встречи горчайший день. 16 (или 15?) ноября 1945 года, когда Ахматова встретилась с Берлином, для нее вовсе не было "горчайшим днем". Таким этот день она могла считать только "после всего", то есть после Постановления 1946 года и всего шквала бед, обрушившихся на нее. Но 6 января 1945 года как "горчайший", Ахматова могла помянуть, скорее, день встречи с Гаршиным. Он был "горчайшим", потому что с Гаршиным Ахматова встретилась "в страшные годы ежовщины". То, что это действительно так, показывает сравнение этого стихотворения и того, о котором я уже упоминал, написанного 13 января и никогда никому Ахматовой не перепосвященного: А человек, который для меня Теперь никто, а был моей заботой И утешеньем самых горьких лет… Но "самых горьких" это ведь и есть "горчайших". День встречи с Гаршиным стал "горчайшим" и в свете того, что случилось потом и чему итог Ахматова подвела 5 февраля 1945 года в своей гениальной элегии "Есть три эпохи у воспоминаний…": Боже мой! И вот когда горчайшее приходит: Мы сознаем, что не могли б вместить То прошлое в границы нашей жизни, И нам оно почти что так же чуждо, Как нашему соседу по квартире, Что тех, кто умер, мы бы не узнали, А те, с кем нам разлуку Бог послал, Прекрасно обошлись без нас… Тут двойной выстрел: и по "изменнику" Пунину ("соседу по квартире"), и по "изменнику" Гаршину, который "прекрасно без нее обошелся". Прекрасно? Посвященье сожженной драмы, От которой и пепла нет, Или вышедший вдруг из рамы, Новогодний страшный портрет? Драма, о которой идет речь, к тому времени, когда было написано это стихотворение, была уже сожжена. Хотя точной даты сожжения "Энума Элиш" мы до сих пор не знаем17, но, скорее всего, когда Берлин пришел к Ахматовой, драмы уже не существовало. Во всяком случае, он не упоминает о ней в своих воспоминаниях, хотя подробно перечисляет все произведения, которые читала ему Ахматова, включая даже "Реквием". Драма "Энума Элиш", написанная в Ташкенте, могла быть посвящена В.Г. Гаршину, как была ему посвящена первая, ташкентская, редакция "Поэмы без героя" (в этой редакции было даже два посвящения, "Решки" - В.Г. Гаршину, "Эпилога" - "Городу и другу", то есть тому же герою). После разрыва посвящения были сняты. "Посвященье сожженной драмы" Ахматова переадресовала Берлину, включив "гаршинское" стихотворение в цикл, посвященный Берлину. Но сэр Исайя не пожелал себя узнать в "Госте из Будущего" из восстановленной частично в 60-х годах драмы, хотя их общие с Ахматовой воспоминания, несомненно, в этом образе присутствуют. Или слышимый еле-еле Звон березовых угольков, Или то, что мне не успели Досказать про чужую любовь? Здесь тоже чувствуется очень личная нота, не имеющая никакого отношения к Берлину. Вряд ли бы он стал рассказывать Ахматовой о своей любви к какой-то другой женщине, хотя Берлин и говорит о том, что их беседа касалась "интимных подробностей ее и моей жизни". Но все же тот "сор", из которого выросли эти стихи, по-видимому, имел совсем другую основу. О том, почему Гаршин не женился на Ахматовой, когда этому, казалось, не было никаких препятствий, судачили многие. Общие знакомые рассказывали Ахматовой о любви к "молоденькой девушке-медсестре", что не соответствовало действительности. Но и правда о том, что К.Г. Волкова была не медсестрой, а доктором наук, и не молоденькой девушкой, а ровесницей Ахматовой, была не более для нее утешительной18. Она переживала муки ревности, и это отразилось в стихах, но бытовые факты советской действительности уже в цикле "Cinque" поданы, так сказать, в иностранной упаковке. И в дальнейшем этим приемом Ахматова пользовалась неоднократно и разработала его виртуозно: под маской Берлина ("Гостя из Будущего") она скрывала нередко совершенно иных героев и иные обстоятельства, способствовавшие рождению стихов. Это можно проследить и в поздних редакциях "Поэмы без героя", и в цикле "Шиповник цветет" и в "Полночных стихах". Вернемся, однако, к обстоятельствам первой встречи. Если верить Берлину, в его распоряжении были "две ночи в старой гостинице "Астория", в обществе представителя Британского Совета в Советском Союзе, мисс Бренды Трипп, весьма умной и симпатичной барышни"/. Тем не менее, Исайя Берлин предпочел ей общество Анны Ахматовой и провел у последней более половины своего ленинградского вояжа: с 15 часов 15 ноября до 11 часов 16 ноября 1945 года. Как это произошло? Берлин, по его словам, прибыл в Ленинград с тем, чтобы отовариться в этом городе антикварными книгами, которые стоили здесь намного дешевле, нежели в Москве. (Об истинном задании, состоящем в том, чтобы выяснить настроения наиболее выдающихся представителей ленинградской интеллигенции и составить об этом отчет, он в воспоминаниях умалчивает)19. В Книжной лавке писателей, куда он зашел из "Астории" вместе с мисс Трипп, он "вступил в разговор с человеком, перелистывавшим книжку стихов". Человек "оказался известным критиком и историком литературы". Берлин не называет имени своего знакомца, но им "оказался" не кто-нибудь, а редактор готовящейся к изданию книги стихов Анны Ахматовой Владимир Николаевич Орлов. Странное совпадение! У меня порой создается впечатление: а не поджидал ли он Берлина в этой лавке? Не был ли визит Берлина в Ленинград заранее "разработан" ленинградскими чекистами? Во всяком случае, когда Берлин спросил Орлова "о судьбе писателей-ленинградцев", тот ответил: "Вы имеете в виду Зощенко и Ахматову?" Не предвосхищает ли последовавшие печальные события такое "странное сближение" далековатых писательских имен в устах В.Н. Орлова? Орлов сразу же предлагает молодому "английскому профессору русской литературы" (а именно так, а не иначе, надо полагать, представился ему Берлин) посетить Ахматову. Вот как это описано в мемуарах: "Я позвоню ей", - ответил мой новый знакомец и возвратился с известием, что она примет нас в три часа дня". Содержания разговора Орлова с Ахматовой Берлин, естественно, не передает, поскольку его не слышал. Хотя в "отделе обслуживания писателей", где Берлин познакомился с Орловым, стоял телефон, но, возможно, он был поставлен позднее, и Орлову пришлось пройти в служебное помещение к директору Лавки писателей Г.М. Рахлину, чтобы позвонить оттуда. Между прочим, Л.Н. Гумилёв писал, что "Ахматова была вынуждена принять английского дипломата по прямому указанию В.Н. Орлова, члена президиума Союза писателей"20. Если принять во внимание гипотезу о том, что Орлов встретил английского дипломата не случайно, а по заданию соответствующих органов, то у него, естественно, было право и приказать Ахматовой (по крайней мере, сказать ей что-то вроде "Вы должны"). Думаю, что Л.Н. Гумилёв располагал определенной информацией и не случайно настаивал на "приказе" Орлова. Когда Орлов звонил Ахматовой? Книжная лавка открывается в 11 часов утра. Значит, он мог позвонить где-то около полудня, не раньше. Таким образом, у Ахматовой на приготовления к визиту оставалось не более трех часов. Берлин, тем временем, возвращается в "Асторию" и спрашивает мисс Трипп, "хочет ли она посетить поэта". Она отказывается, сославшись на занятость. Тут Берлин что-то путает, ведь на полстраницы раньше он же пишет: "Поскольку мисс Трипп и я были иностранцами, нас допустили во внутреннее святилище". Значит, мисс Бренда Трипп была с ним в Лавке писателей? Или она ушла раньше, а он остался ожидать результатов телефонных переговоров Орлова с Ахматовой? Впрочем, Анатолий Найман своим переводом вносит ясность. В первом (между прочим, авторизованном) переводе, читаем: "Я тем временем возвратился в "Асторию" к мисс Трипп…" В переводе Наймана смысл изменен: "Я возвратился в "Асторию" с мисс Трипп…"21. Но это мелочи. У Ахматовой было меньше трех часов в запасе, чтобы приготовиться к визиту "английского профессора". Что она делает? Прежде всего, звонит своей приятельнице Софье Казимировне Островской и приглашает ее прийти и оказать услуги в качестве переводчицы, - на свой разговорный английский Ахматова не надеялась. Но только ли как переводчицу пригласила Ахматова Островскую? Постараемся войти в ее тогдашнее состояние. Выслушав просьбу Орлова, переданную ей в приказном тоне, Ахматова должна была прежде всего насторожиться. Для советских людей приватный визит иностранца был явлением из ряда вон выходящим, а уж для нее и подавно. Берлин сам указывает (конечно, со слов Ахматовой), что до него она встречалась "лишь с одним иностранцем - графом Юзефом Чапским <…> в Ташкенте". Это не совсем верно, но, во всяком случае, после возвращения в Ленинград иностранцы ее посещениями пока не баловали. Сына дома не было. У Пуниных была своя жизнь, свои комнаты, обращаться к ним было сейчас не с руки. Софья Казимировна показалась ей наиболее удобной свидетельницей. Хотя Ахматова познакомилась с ней сравнительно недавно, только в сентябре 1944 года, эта женщина сумела войти к ней в доверие. А кроме того, она была отлично воспитана, владела многими языками, могла, при случае, помочь по хозяйству и в то же время поддержать светскую беседу. Анна Андреевна набрала номер Островской и попросила ее приехать к ней как можно быстрее, объяснив суть дела. Та быстро всё поняла и согласилась. Между прочим, после смерти С.К. Островской ее дневники попали за границу и были опубликованы по-английски ее приятельницей Джесси Дэвис. Издательница пользовалась консультациями сэра Исайи Берлина, как специалиста по творчеству Ахматовой. Может быть, именно вмешательством Берлина можно объяснить одну довольно странную вещь: в мемуарах С.К. Островской нет упоминаний о Берлине и о его встречах с Ахматовой. Хотя я не читал и даже не видел рукописей дневников, но зато много раз говорил с С.К. Островской на эту тему, и мне трудно поверить, что Софья Казимировна опустила ее в своих дневниках. Можно предположить, что сэр Исайя попросил воздержаться от публикации этих страниц потому, что они противоречили его собственным трактовкам одних и тех же событий. Разумеется, это предположение нуждается в доказательствах, но имеющие доступ к подлинникам дневников Островской на Западе могут, при желании, эти доказательства попытаться раздобыть. Конечно, известную пикантность появлению на этих страницах имени С.К. Островской и, тем паче, ее "свидетельств" придает тот, ныне ставший довольно широко известным, факт, что она была осведомительницей, писавшей "отчеты" об Ахматовой в КГБ. О психологических и иных факторах ее сотрудничества с Большим домом я пишу в специальном, отчасти мемуарном очерке об С.К. Островской на страницах этого сборника. Здесь же я хочу лишь заметить, что осведомительская деятельность Островской отнюдь не мешала, а, скорее, способствовала точности ее наблюдений. Итак, к моменту прихода Берлина С.К. Островская была у Ахматовой: "С ней (Ахматовой - М.К.) была ее знакомая, принадлежавшая, по-видимому, к академическим кругам". Таким, несколько тяжеловатым и не совсем внятным определением исчерпывается характеристика С.К. Островской в воспоминаниях Берлина. Может быть, Ахматова предусмотрительно не представила С.К. Островскую гостю, но возможно и то, что Берлин ее имя знал и помнил, но не хотел "подставлять" Островскую в мемуарах, вышедших при ее жизни за рубежом. (Не называть имен - вообще правило Берлина в этих мемуарах). И хозяйка дома, и Островская были безмерно удивлены, когда "английский" профессор учтиво поцеловал протянутую Ахматовой руку и на чистом русском языке произнес: "Мы переводим Вас как Сафо". Фраза эта поразила Ахматову не только потому, что была сказана по-русски, но прежде всего потому, что прозвучала как эхо давних слов другого русского, ставшего англичанином - Бориса Анрепа. В 1914 году он написал своему другу Николаю Владимировичу Недоброво (а друг, вероятно, проболтался об этом Ахматовой): "Она была бы - Сафо, если бы не ее православная изнеможденность"22. Но о том, что Берлин начал свой диалог с Ахматовой именно с этой оглушительной фразы, я узнал не от него, а от Островской, которая вспомнила ее, когда я читал ей его воспоминания. Сам сэр Исайя вспоминает о начале знакомства иначе и несравненно более вяло ("Я поклонился - это казалось уместным, поскольку она выглядела и двигалась, как королева в трагедии, - поблагодарил ее за то, что она согласилась принять меня, и сказал, что на Западе будут рады узнать, что она в добром здравии, поскольку в течение многих лет о ней ничего не было слышно"). Напомним, что вместе с Берлином пришел и В.Н. Орлов, который, вероятно и представил иностранного гостя хозяйке дома. Представил как английского специалиста по русской литературе. И только. Положим, он не знал об основной миссии, которая привела его спутника в город Ленина. Но почему сам Исайя Берлин не счел нужным сказать Ахматовой, что он является представителем английского посольства? Разве не понимал он, какой опасности подвергает Ахматову, явившись к ней в овечьей шкуре "литературоведа"? Не мог не понимать, - 36-летний дипломат отнюдь не был мальчиком в таких вопросах. Но для Берлина как для политика было важнее выполнить поставленную перед ним задачу: собрать информацию о настроениях творчески мыслящей интеллигенции. Ахматова была крупной фигурой, известной на Западе, так что, можно сказать, что ему крупно повезло - из встречи с ней можно было извлечь хороший результат. О последствиях его визита для Ахматовой он, вероятно, не слишком-то задумывался. Составитель Собрания сочинений Анны Ахматовой Н.В. Королева рассуждает на эту тему куда более мягко: "По-видимому, любовь к стихам Ахматовой, интерес к живому классику русской литературы и неожиданность предложения ленинградского литературоведа В.Н. Орлова посетить Ахматову заставили дипломата забыть об осторожности. К тому же он был убежден в "защищенности" Ахматовой перед лицом советского государства ее великим талантом"23. Не исключено, однако, что Ахматова оказалась жертвой в большой дипломатической игре двух разведок. Хотя сам сэр Исайя Берлин утверждал, что он "никогда не служил ни в какой разведывательной организации", этот факт действительно не имел существенного значения: "для Сталина все члены иностранных посольств или миссий были шпионами". И Берлин не мог этого не знать, а значит, сознательно "подставил" Ахматову. Так считали и некоторые их общие знакомые на Западе. Руфь Зернова передает в своих замечательных воспоминаниях рассказ самого сэра Исайи о том, что Саломея Андроникова написала ему письмо, что больше не может поддерживать с ним отношения, раз он так поступил с Ахматовой24. Хотя в дальнейшем Саломея Николаевна восстановила отношения с Берлином, будучи от него в относительной материальной зависимости, она до конца жизни считала его именно что разведчиком, безответственно поступившим с доверившейся ему женщиной25. Конечно, большое значение для всего последующего имел непредвиденный инцидент с Рандольфом Черчиллем. Кстати, в тех же мемуарах Р. Зерновой дважды говорится, что сын Черчилля появился во дворе Фонтанного Дома среди ночи26. Ошибка ли это мемуаристки или эффектная выдумка самого Берлина, - об этом остается только гадать. Тем более важно восстановить хронологию встречи. По словам Берлина, он пришел к Ахматовой в 15 часов. Он почти не разделяет встречу по временным интервалам, зато Островская, слушавшая мое чтение его воспоминаний, внесла в рассказ Берлина существенные уточнения. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 06-05-2007 17:11 |
|
Она разделила столь затянувшийся визит на четыре этапа. Первый, по воспоминаниям Берлина, выглядит очень кратким, занимающим не более получаса. По мнению же С.К. Островской, этот первый этап встречи (до появления Рандольфа Черчилля) был более продолжительным. Общий разговор, в котором, напомню принимали участие четыре человека, продолжался около двух часов, с 15 до 17 часов. "Придиралась" Софья Казимировна и к отдельным деталям. Сэр Исайя вспоминал: "Навстречу нам медленно поднялась статная, седоволосая дама в белой шали, наброшенной на плечи" и далее писал о "выражении безмерной скорби" в ее чертах. Услышав об этом, С.К. сочла нужным поправить Берлина: "Белой шали на плечах не было, это он спутал. Ахматова была в драном японском халате. Не было и скорби в глазах, - она была безумно испугана, особенно в первый момент, когда он начал говорить по-русски. Впрочем, никаких разговоров о статье в "Дублин Ревью" не было", решительно добавила моя осведомленная слушательница. Уже через несколько минут (согласно Берлину), он услышал, что кто-то во дворе Фонтанного Дома громко зовет его по имени. Убедившись, что это не галлюцинация, Берлин подошел к окну и "увидел человека, в котором узнал Рандольфа Черчилля". Если предположить, что это случилось примерно в 15 часов 30 минут, то, в общем, в середине ноября еще можно различить из окна третьего этажа человека и даже узнать в нем своего однокашника по студенчеству в Оксфорде. Если принять версию С.К. Островской о том, что это случилось около 17 часов, то, по сути, Берлин не выдумывал, когда рассказывал Р.А. Зерновой, что Рандольф Черчилль отправился искать его "среди ночи". В 5 часов вечера в середине ноября в Ленинграде уже по-ночному темно. Берлин, а за ним и Владимир Орлов, выбегают во двор Фонтанного Дома, где Исай Менделевич, как истинно британский джельтмен, "механически" знакомит Орлова с мистером Рандольфом Черчиллем. Реакция Орлова передана довольно выразительно: "Критик окаменел, выражение его лица изменилось от замешательства к ужасу, и он стремительно покинул нас. Я никогда больше его не видел, но из того, что его произведения продолжают публиковаться в Советском Союзе, я заключаю, что эта неожиданная встреча не по-вредила ему". Владимир Николаевич Орлов "стремительно покинул" общество двух английских джельтменов и направился… Куда? Перед ним стояла нелегкая дилемма: постараться забыть обо всем, чему он только что был свидетелем или же выполнить долг советского бдительного гражданина и сообщить куда надо, с кем он был только что познакомлен. Это, конечно, если Орлов с самого начала не был задействован в этой крупной политической игре. Думаю, в том или ином случае он свою роль исполнил неплохо. Во всяком случае, сэр Исайя Берлин сделал правильный вывод, что "случайная встреча" ему никак не повредила. Книга стихов Ахматовой, составленная и отредактированная Орловым, была пущена под нож, не успев выйти в свет, а он как редактор, не понес никакого наказания, разве что публично отрекся от Анны Ахматовой на заседании Правления Ленинградского отделения Союза писателей 19 августа 1946 года. В дальнейшем он много лет возглавлял редакцию "Библиотеки поэта", где выпустил целый ряд превосходных книг, а также делал успешную чиновную карьеру, занимая руководящие должности в Ленинградском отделении Союза писателей. Хотя отношения Анны Ахматовой с В.Н. Орловым не прекращались и после 1946 года, они носили исключительно вынужденно-деловой характер. Как рассказывал мне конкурент Вл. Орлова в области блоковедения Д.Е. Максимов, "Ахматова рыла землю при одном упоминании его имени." Неприязнь к Ахматовой, порожденную, возможно, пережитым страхом, Владимир Орлов сохранил до конца жизни. Достаточно перечесть те страницы его романа "Гамаюн", посвященного Александру Блоку, на которых речь идет о "Поэме без героя". В эту же строку ложится и такая запись из "Бесед с Анной Ахматовой" Вяч. Вс. Иванова: "В 1959 году я приехал в Ленинград по делу ненадолго и вдруг сообразил, что это - день рождения Ахматовой, а у меня нет с собой ее телефона. Чтобы его узнать, я позвонил В.Н. Орлову: до того я слышал, как на отдыхе в Дубулты он читал вслух ее стихи из последних, ходивших еще в списках. В телефонной трубке наступило замешательство. Оказалось, что ни он, ни другие видные литераторы не имели с Ахматовой дела"27. Когда в 1982 году я должен был делать доклад на тему "Анна Ахматова и Николай Недоброво" в Белом зале Дома писателей (были уже отпечатаны и розданы пригласительные билеты), третий секретарь Союза писателей В.Н. Орлов лично звонил первому секретарю А.Н. Чепурову и в приказном порядке требовал запретить мое выступление. Если бы ни отвага ведущей вечера поэтессы Татьяны Галушко, сумевшей как-то успокоить Чепурова, доклад непременно был бы отменен28. Мне кажется, современные биографы Ахматовой иногда подходят к делу чересчур упрощенно, не учитывая всех обстоятельств. Вот как, например, повествует о случившемся Игорь Лосиевский в своем жизнеописании Анны Ахматовой: "Началось с досадной случайности: во время первого визита И. Берлина к Ахматовой его разыскал в Фонтанном Доме давний приятель Рандольф Черчилль, сын бывшего британского премьера. Вскоре по городу пополз нелепый слух, что по инициативе Уинстона Черчилля к Ахматовой приходила иностранная делегация - с предложением… покинуть Россию. Дело в том, что в основном здании Фонтанного Дома тогда находился Институт Севера. Пройти к Анне Андреевне можно было только через внутренний двор, не только сообщив вахтеру, к кому идешь, но и оставив свой паспорт. Об иностранных гражданах вахтер незамедлительно сообщал, куда следует <…> Так вот, вахтер докладывал, органы, которым надлежало проявлять особую бдительность, реагировали"29. Я думаю, что в это именно время вахтеры никакой особой бдительности не проявляли. Иначе вряд ли бы мог Берлин свободно проходить от Ахматовой и обратно несколько раз в дневное время и даже в ночное. Вахта была в это время, скорее, формальной, - точнее о взаимоотношениях вахтеров и посетителей Ахматовой говорится в одной из дневниковых записей Островской о ее первом визите в Фонтанный Дом 21 сентября 1944 года: "Я брела по неизвестным мне дорожкам сада и даже по траве в продолжение довольно долгого времени. Слабый свет из окон здания казался желтоватым. А затем и окна эти погасли, и я очутилась в полной темноте. Светили звезды, контуры Шереметевского дворца стали выступать из темноты, озаряемой мерцанием звезд. Наконец с трудом я нашла дверь со двора в вестибюль дворца. Дежурная привратница или сторожиха взглянула на меня из своей будочки и сказала мне добродушно: "Мне уже сказали, что кто-то зажигает спички в саду и я сразу решила, что это будете Вы. Я сказала себе: "Не надо бояться - всё в порядке - это не чужие мужчины со стороны - это просто наши писатели приходят и уходят" Ирина Николаевна Пунина, очевидец событий, как правило, достоверный, вспоминает, что "систему пропусков для людей, приходивших в нашу квартиру, ввели в проходной Фонтанного Дома с конца 1940-х годов"30. То есть тогда, когда за Ахматовой была уже установлена неофициальная слежка. А тогда, 15 ноября, дело было, скорее всего, не в вахтерах. И без них было кому сообщать куда надо и даже писать подробные служебные доносы о поведении "объекта Ахматовой". Но Ахматова! Берлин, не без труда отделавшись от Черчилля-младшего, позвонил ей из книжной лавки, "чтобы объяснить причину его внезапного и неожиданного бегства". Надо полагать, что при этом объяснении, как и в случае с Орловым, сэр Исайя назвал имя Рандольфа Черчилля. И что же Анна Андреевна? Бросила в ужасе трубку? Запретила ему звонить раз и навсегда? Села писать на себя покаянный донос? Нет, она пригласила Берлина навестить ее снова в 9 часов вечера. А может быть, сэр Исайя и не поставил ее в известность, что за птица залетала только что во двор Фонтанного Дома? Что ж, в таком случае он "подставил" ее вторично. Этот, второй визит Берлина продолжался с 21 часа до половины двенадцатого ночи, то есть два с половиной часа. Присутствовали те же лица (кроме Орлова), Лев Гумилёв (о котором Берлин, впрочем, вовсе до 3-х часов ночи не упоминает) и еще одна приятельница Ахматовой, которую Берлин называет "ученой дамой, ученицей ассириолога Шилейко, второго мужа Ахматовой". Это была Антонина Михайловна Розен, археолог, женщина очень любимая Ахматовой, которая обычно называла ее просто "Антой", а после ее смерти посвятила ей трогательное стихотворение. По словам Островской примерно в это же время (в 21 час, а не в три часа ночи, как вспоминает Берлин), "открылась дверь, и вошел Лев Гумилёв". Собственно говоря, конечно, и в три часа ночи Лев Гумилёв мог, в принципе, подкормить маму и ее гостя картошкой. Но все-таки настоящий ужин состоялся тогда, когда и положено ужинать, то есть после 9 часов вечера. Трудно предположить, что в доме Ахматовой иностранного гостя до трех часов ночи "кормили баснями" - у русских людей так не принято. Между тем, именно так описывает Берлин эти два с половиной часа. ("Когда я вернулся, у Ахматовой снова сидала приятельница, на этот раз ученица ассириолога Шилейко, ее второго мужа, засыпавшая меня многочисленными вопросами об английских университетах и их организации. Ахматовой это было явно неинтересно, она молчала." Вот и всё, о чем нашел нужным вспомнить сэр Исайя. А вот о чем вспоминала Островская. Ужин, по словам Софьи Казимировны, был скромным, но всё же состоял не из одного только блюда вареной картошки. Дамы постарались, зная на этот раз о приходе гостя заблаговременно, и к его приходу на столе уже были: только что сваренная картошка, квашенная капустка, селедка и водка, а также чай и сахар. Конечно, и папиросы: Ахматова и Островская были в то время завзятыми курильщицами. Пикантность ситуации заключалась в том, что участников ужина было пятеро, а рюмок только четыре. Поэтому выпивали, как выразилась Софья Казимировна, "с выходным": "То Лёва уйдет на кухню, то я, а он (Берлин - М.К.) думал, что на кухне кто-то готовит для Ахматовой картошку. Лёва злился и назвал Берлина (на кухне) - "этранжер проклятый", привычно картавя при этом". За ужином шла общая беседа. Софья Казимировна вспоминала, что принесла для английского гостя заранее приготовленный кусок "Поэмы без героя" (начало), которую начала переводить на английский язык Татьяна Гнедич. Этот перевод был показан Берлину. Он просмотрел рукопись и нашел несколько ошибок. Но сам сэр Исайя об этом факте не упоминает. Далее он пишет: "Незадолго до полуночи дама-ассириолог ушла, и Ахматова стала расспрашивать меня…" Обрываю цитату, чтобы восстановить немаловажные пропущенные мемуаристом обстоятельства, о которых мне рассказала всё та же С.К. Островская. Антонина Михайловна Розен не рашилась в столь поздний час одна добираться до Большого проспекта Петроградской стороны, где она жила, а отправилась ночевать к Островской на улицу Радищева. Исайя Берлин сам вызвался сопроводить обеих дам. От Фонтанного Дома до улицы Радищева примерно полчаса пешего ходу, так что наш джельтмен мог за час сходить туда и обратно и к часу ночи вернуться в квартиру Ахматовой. Дальнейшая их беседа продолжалась с глазу на глаз до 3-х часов ночи. В это время, если верить сэру Исайе, "отворилась дверь, и вошел Лев Гумилёв". После разговора с "этранжером" Гумилёв пошел спать, а они продолжали беседу, которая "затянулась вплоть до позднего утра следующего дня". В эту бесконечную ночь и в это утро и вписывает сэр Исайя Берлин всё, что говорила ему Анна Ахматова. С.К. Островская была, помнится, категорически не согласна с такой трактовкой. "Он же не один раз у нее бывал. Это же бред собачий, я-то уж знаю!" Так я тогда записал буквально за ней, и думаю, Софья Казимировна знала, что говорила. На первых порах Ахматова не делала секрета из своих встреч с Берлином, еще не предвидя их горьких последствий. Она сама рассказывала о встречах с "англичанином" Наталье Леонидовне Дилакторской. Сохранились выдержки из этого дневника, сделанные его автором. Эти записи представляют, на мой взгляд, некоторый интерес прежде всего потому, что они сделаны непосредственно по следам событий, а главным образом потому, что в них отражены те впечатления от встреч с Берлином, которые вынесла и сочла возможным рассказать стороннему человеку сама Ахматова. Следует пояснить, что в это время Н.Л. Дилакторская была одним из наиболее доверенных лиц Ахматовой. Именно она удостоилась чести быть редактором-составителем двухтомного рукописного собрания стихотворений Ахматовой, уникального для того времени "самиздатского" собрания, впоследствии послужившего для публикации некоторых уцелевших только в его составе стихотворений Ахматовой31. О степени откровенности отношений Ахматовой и Дилакторской дают представление выдержки из дневника последней, которые приводятся здесь с некоторыми сокращениями: "Самым интересным моментом в редакционной работе с автором - для меня было настолько угадать или интуитивно почувствовать самые больные вопросы творчества и жизни человека, чтобы он почувствовал себя с одной стороны совсем безоружным, с другой - видел во мне психологическую опору: раз всё понято - скрывать нечего - и тут начиналась грань бесконечного доверия. Этот момент наступает во взаимоотношениях с Ахматовой. Я веду себя как свирепый редактор, которому всё дозволено говорить. Это ее обезоруживает. Удастся ли мне добиться моей личной цели - абсолютной "исповеди" - не знаю, но меня допускают все глубже и глубже. За последние встречи (я была у А.А. 10, 11 и 14 дек. с. г. и она была у меня 22 дек. (1945 года - М.К.) - сквозь все эти разговоры иногда интонацией, иногда подчеркнутой фразой - звучало это "я не только Вам это говорю", а с другой стороны - "никто кроме Вас не решился бы даже это подумать!" Темы разговоров: 1) стихи новые и неизданные; 2) о предвыборном собрании в ССП; 3) англичанин; 4) Рахлин и слова А.А.; 5) Пронин и "Бродячая собака"; 6) Фрейд; 7) Алигер и Берггольц… 3) Об англичанине выспрашивала я. Он ни о ком не спрашивал, вообще ни о чем не спрашивал. О современной литературе не говорил совсем. Очень любит Герцена и много цитировал его по памяти. Много говорил о русском языке, о композиторах Шостаковиче и Прокофьеве. 4) Рахлин был в театре, куда пошла А.А. после собрания, он ей сказал: "Ваш новый поклонник требует, чтобы я достал все журналы, сборники, где есть Ваши стихи". Сказал, что она сама не знает своей славы, стихи ее он просит достать китаянку из посольства. Второй раз разговор касался "англичанина" когда Дилакторская посетила Ахматову 9 января 1946 года, но суть разговора в дневнике не раскрыта. В ответ на любопытство Дилакторской, которая "выспрашивала" Ахматову, та дает вполне благонадежные ответы, выставляя иностранного визитера, как человека, далекого от проблем современности, не интересующегося современной литературой, что, конечно же, не соответствовало действительности. Однако темы, которые Берлин, по словам Ахматовой, затрагивал в разговорах с ней (любовь к Герцену, русский язык, Шостакович и Прокофьев) почти наверняка обсуждались обоими собеседниками. Однако в мемуарах самого сэра Исайи не упоминается ни одна из запомнившихся Ахматовой тем. В письме ко мне от 15 апреля 1989 года сэр Исайя счел нужным даже специально оговорить свою непричастность к музыке: "Я никогда (подчеркнуто Берлином - М. К.) не был музыкантом. Я не помню ни одного слова о музыке или музыкантах, произнесенных Анной Андреевной. Не думаю что об этом когда-либо шел разговор"32. Вот вопрос: кому же в данном случае верить? Упоминаемый в четвертом пункте Рахлин (Геннадий Моисееевич) был в то время директором Книжной лавки писателей, где сэр Исайя с ним и познакомился. Всё сказанное выше не то чтобы подрывает доверие к воспоминаниям сэра Исайи Берлина, но вносит в них определенные коррективы. Конечно, уже невозможно услышать, о чем они говорили, оставшись, наконец, наедине, почти десять часов подряд. Но было бы интересно узнать, сколько папирос выкурила за это время Анна Андреевна! Смущает не только ее необычная откровенность перед человеком, которого она видит первый раз в жизни. Смущает, кажется непривычной для "бесслезной" Ахматовой, которую мы знаем по ее стихам, ее слезливость, о которой упоминается трижды ("в ее глазах стояли слезы", "она залилась слезами", "ее глаза наполнились слезами"). Невольно, когда читаешь это, вспоминается о водке, выпитой за ужином. Это не роняет, разумеется, достоинство Ахматовой, но лишь по-человечески объясняет некоторые особенности ее поведения, оставленные Берлином без пояснения. Согласно воспоминаниям сэра Исайи, Ахматова прежде всего расспрашивала его о ее знакомых, живших за границей: об Артуре Лурье, "который был когда-то интимным другом Ахматовой" (неужели и об этом Ахматова ему рассказывала или тут проявляются его позднейшие познания?). Берлин рассказал, что встретил Артура Лурье в Америке во время войны"33 (хотя сам А.С. Лурье в письмах Саломее Андрониковой отрицал факт своего знакомства с Берлином34. Вспоминая о самой Саломее Николаевне Андрониковой, Берлин пишет, что "Ахматова была с ней хорошо знакома в Петербурге еще до первой мировой войны". Еще С.К. Островская, услышав об этом, сказала, что "хорошее знакомство" началось только в 1916 году, то есть два года спустя после начала первой мировой; да и сама С.Н. Андроникова в письме ко мне писала об этом35. Анна Ахматова рассказала Исайе Берлину фактически всю свою биографию, прочитала по-английски две песни из "Дон Жуана" Байрона, читала собственные стихи из сборников "Аnnо Domini", "Белая стая", "Из шести книг", прочитала свои записки о "Египетских ночах" Пушкина, произносила длинные монологи о Чехове, Достоевском, Толстом, Пушкине, Блоке и Пастернаке. Она также дважды прочитала своему собеседнику "Поэму без героя". Берлин как истинный "Гостъ из Будущего" посчитал ее "в то время еще не оконченною". Конечно, строк, навеянных отчасти встречами с ним, равно как и "Третьего посвящения" в поэме еще не было, что не мешало Ахматовой в 1945 году считать "Поэму без героя" произведением оконченным и на этом основании дарить друзьям в многочисленных списках. Берлин сообщает также, что Ахматова "прочла по рукописи "Реквием". Вызывает сомнение не столько даже сам факт существования рукописи "Реквиема". (В принципе, в 1945 году могла существовать и рукопись, и даже машинопись "Реквиема", хотя, не сомневаюсь, найдутся противники этого утверждения, которые будут с пеной у рта утверждать, что никаких рукописей "Реквиема" не было и быть не могло, что всё сжигалось тотчас по прочтении и хранилось только в памяти немногих верных друзей, а на бумагу было записано только в начале 60-х. Доводы противников основываются, главным образом, на "Записках" Лидии Чуковской. Но Л.К.Чуковская, которую Ахматова хотя и назвала сэру Исайе в числе ее преданных друзей (что само по себе странно, ведь они к тому времени уже больше двух лет не разговаривали), вряд ли могла быть в курсе событий внутренней жизни поэта именно в 1945 году. Нет, в существование рукописи той поэмы, которая отличалась от канонического "Реквиема, известного нам, но всё же содержала те же самые стихи, пусть и в несколько меньшем количестве, поверить как раз можно, зная общий оптимистический настрой Ахматовой этого времени, благоволение к ней властей и т.д. Более серьезные сомнения вызывает безоговорочное утверждение сэра Исайи, что всё это было рассказано и прочитано ему - человеку из-за границы, которого Ахматова видела впервые в жизни. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 06-05-2007 17:12 |
|
Пусть он ее очаровал (хотя чем и как, из его воспоминаний остается неведомым). Пусть было выпито немало водки и выкурено много папирос. Но так вывернуться наизнанку, так обнажиться, позабыв о всяческой осторожности, об ответственности, наконец, перед собственным сыном? Разве прочитанный "Реквием" не мог остановить Ахматову возможностью его повторения? Разве не понимала она, что творит? У Анны Ахматовой было некоторое время подумать, покуда Исайя Берлин провожал её приятельниц. Вечер миновал, этим, собственно, можно было и ограничиться. Но впереди маячила - и манила - ночь. И было право последнего выбора. Выбрать ночь - и остаться поэтом. Она выбрала ночь - и открыла дверь. Ведь сегодня такая ночь, Когда нужно платить по счету, А дурманящую дремоту Мне трудней, чем смерть, превозмочь. Она превозмогла "дурманящую дремоту", свойственную большинству ее современниц. В эту ночь она заплатила вперед по всем счетам на всю оставшуюся ей жизнь. Анна Ахматова, сделав в ту ночь смертельно опасный выбор свободного человека, живущего в тюрьме (вспомним "в проклятый дом - в твою тюрьму"), не только не оказалась в проигрыше, она сумела вырваться, не без помощи своего "Гостя из Будущего", но, главным образом, благодаря своей неукротимой Музе, в иные времена и пространства: И время прочь, и пространство прочь... Это был ее волевой выбор собственного будущего, это было Холодное, чистое, лёгкое пламя Победы моей над судьбой. 1990-2000 Печатается впервые -------------------------------------------------------------------------------- Примечания 1. Исайя Берлин. Встречи с русскими писателями 1945 и 1956 (пер. с англ. Д. Сегал, Е. Толстая-Сегал, О. Ронен в сотрудничестве с автором) // "Slavica Hierosolymitana". The Magnes press. The Hebrew University. Jerusalem. 1981. С.593-641. В дальнейшем все ссылки на это издание без указания страниц. вверх 2. Н.В. Королева. Комментарии //Анна Ахматова. Собр. соч. в шести томах. Т. 2. Кн. первая. М. "Эллис Лак. 1999. С. 500. вверх 3. Имеется в виду издание: Анна Ахматова. Соч. в двух томах. М. "Правда". 1990. Составление и подготовка текста М. Кралина. вверх 4. Видимо, до Сэра Исайи дошла реконструкция текста незавершенной пьесы Анны Ахматовой "Пролог, или Сон во сне" ("Энума Элиш"), предложенная мной ("Искусство Ленинграда". 1989. № 1. С. 12-35). вверх 5. Письмо написано по-русски, но рукой Берлина - только подпись (оригинал письма в моем архиве - М. К.). вверх 6. "Звезда". 1990. № 2. вверх 7. Олег Калугин. Дело КГБ на Анну Ахматову. // Госбезопасность и литература на опыте России и Германии (СССР и ГДР). М. Рудомино. 1994. С. 72-79. вверх 8. Подробнее об этом см. в очерке "Софья Казимировна Островская - друг или оборотень", вошедшем в настоящий сборник. вверх 9. Об особом искусстве "чарователя" женщин, присущем Берлину, писала мне в одном из писем С.С. Андроникова, прекрасно его знавшая и видевшая в этом основную "разгадку" романа Берлина и Ахматовой. вверх 10. Анна Ахматова. Соч. в двух томах. Т. 2. М. Изд. "Правда". 1990. С. 281. вверх 11. Об этом мне стало известно из писем Ричарда Мак-Кейна, английского поэта и переводчика, у которого были с Берлином разговоры на эти темы. вверх 12. Эмма Герштейн. Мемуары. СПб.: Инапресс, 1998. С. 265-268. вверх 13. О.И. Рыбакова. Грустная правда. // Об Анне Ахматовой. Лениздат. 1990. С. 226. вверх 14. Королева Н.В. Комментарии // Анна Ахматова. Соч. в 6 т. Т. 2. Кн. 1. М. Эллис Лак. 1999. С. 507. вверх 15. Там же. вверх 16. Этими датами помечены 4 и 5 стихотворения цикла в сборнике Ахматовой "Бег времени" (1965). вверх 17. Об обстоятельствах сожжения драмы "Энума элиш" см. в моих комментариях в кн.: Анна Ахматова. Соч. в двух томах. Т. 2. М.: Правда, 1990. С. 384-385. вверх 18. О.И. Рыбакова. Грустная правда. // Об Анне Ахматовой. Лениздат. 1990. С. 228. вверх 19. О.И. Рыбакова. Грустная правда. // Об Анне Ахматовой. Лениздат. 1990. С. 228. вверх 20. Гумилев Л.Н. Отзыв о романе М. Кралина "Артур и Анна" (копия этого документа хранится в моем архиве). вверх 21. Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. М.: Художественная литература, 1989. С. 269. вверх 22. Записные книжки Анны Ахматовой (1958-1966). М. - Torino, 1996. С. 285. вверх 23. Королева Н.В. Комментарии // Анна Ахматова. Собр. соч. в 6 т. Т. 2. Кн. 1. М. Эллис Лак. 1999. С. 506. вверх 24. Руфь Зернова. На море и обратно. Иерусалим. 1998. С. 211. вверх 25. Намеки на это содержатся в письмах С.Н. Андрониковой ко мне, но прямым текстом Саломея Николаевна говорила об этом Ларисе Васильевой, которая жила в то время в Лондоне. вверх 26. Руфь Зернова. На море и обратно. Иерусалим. 1998. С. 211. вверх 27. Вяч. Вс. Иванов. Беседы с Анной Ахматовой. // Воспоминания об Анне Ахматовой. М.: Советский писатель, 1991. С. 486. вверх 28. Для полной характеристики В.Н. Орлова представляет интерес и такая деталь. Поэт-обериут Игорь Владимирович Бахтерев в 1986 году рассказывал мне, что в 20-е годы, когда он учился в Институте Истории Искусств (который, по его словам, называли чаще Институтом Испуганной Интеллигенции), секретарем их комсомольской ячейки был румянощекий юноша Володя Иоффе, ставший впоследствии известным критиком Владимиром Орловым (1908-1985). вверх 29. Игорь Лосиевский. Анна Всея Руси. Харьков: Око, 1996. С. 136. вверх 30. Пунина И.Н Сорок шестой год… // Воспоминания об Анне Ахматовой. М.: Советский писатель, 1991. С. 472. вверх 31. Дилакторская Наталья Леонидовна (1904-1989), детская писательница. Познакомилась с Ахматовой в 1944 году. Выдержки из дневника Н.Л. Дилакторской - в моем архиве. Пользуясь материалами Дилакторской, В.М. Жирмунский впервые опубликовал в ахматовском томе "Библиотеки поэта" стихотворения: "На столике чай, печения сдобные…", "Загорелись иглы венчика…", "Пустые белы святки…" и др. вверх 32. Подлинник письма - в моем архиве. вверх 33. Вероятно этим рассказом навеяны строки о Лурье, появившиеся в "Эпилоге" "Поэмы без героя": Кто в Ташкенте, а кто в Нью-Йорке, И изгнания воздух горький - Как отравленное вино. вверх 34. Судя по письмам Артура Лурье к Саломее Андрониковой, он, как будто, не был знаком с Берлином в годы Второй мировой войны. Первое упоминание о Берлине в письме от 30 апреля 1964 года не содержит ничего, кроме юмора по отношению к приятелю Саломеи: "Он (композитор Николай Наболков - М.К.) в большой дружбе с Вашими знакомыми Берлинами (странно звучит! Почему не Копенгагенами?). А что если вдруг ошибиться: здравствуйте, господин Копенгаген! Как поживаете? Помните, откуда это? Человек входит в комнату и видит там другого. - Яичница! - Спасибо, я уже поел. - Нет, это моя фамилия такая". В письме от 20 августа 1965 года: "Конечно, я повидаю Вашего приятеля Исаю (sic!) Берлина и буду к нему внимателен, следуя Вашим добрым советам". О состоявшемся, наконец, знакомстве сообщается только в письме от 22 ноября 1965 года: "Встреча моя с Вашим приятелем Берлиным была очень удачна, а для меня и приятна, и интересна. Не знаю, как для него. Мы намерены были еще повидаться до его отъезда. Надеюсь, что это тоже осуществится. Он мне очень понравился. Имея в виду, какой я "зверь" и как трудно я схожусь с новыми людьми - это была удача. Я сразу же почувствовал в нем то, что больше всего ценю в людях, то есть его настоящую порядочность, человечность, доброту. Одним словом, я ему сразу же поверил. А сколько он книг прочел за свою жизнь и сколько сам их написал - это дело второстепенное". (Все письма А.С. Лурье цитируются по копиям, присланным С.Н. Андрониковой мне и хранящимся в моем архиве). вверх 35. "Познакомилась я с Ан. Ан. (Ахматовой - М.К.) зимой, кажется 16го года. Уехала и рассталась с ней в мае 17го. Вся наша "дружба" длилась, кажется всего несколько месяцев или год? Но тяготение друг к другу было ясно и обе мы пронесли через 48 лет память сердца и встретились здесь (в Лондоне - М.К.) в 65 году как близкие. Той зимой Анна подарила мне свои стихи (Белую Стаю?) с дарственной "В надежде на дружбу." Состоялась она только в памяти. "(Из письма С.Н. Андрониковой М.М. Кралину от 4-6 марта 1973 года). вверх |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 06-05-2007 18:09 |
|
Ирина Усова Даниил Леонидович Андреев в моей жизни Воспоминания о Данииле Андрееве Благословенны дни, когда расцветают в полях цветы, Это дары весны. Трижды благословен день, когда приходит в мир поэт, Это – дар неба.[1] Осенью 1937 года случайно узнали мы, что живет в Москве сын Леонида Андреева, что "он талантливее своего отца", что он поэт, но никогда нигде не печатался и не печатается. Последнее как раз и заинтриговывало: раз не печатается, значит... Но как познакомиться? Невозможно! И опять-таки случай (а может быть судьба). Он в то время работал, как мы уже потом узнали, над той главой своего романа "Странники ночи", в которой действие происходит в астрономической обсерватории, и ему хотелось посмотреть в телескоп туманность Андромеды. Друзья устроили ему встречу с астрономом, у которого дома был небольшой телескоп. А семья этого астронома была нам как раз хорошо знакома – мы у них бывали. Нам дали знать, когда он придет, и в назначенный день и час я с сестрой Таней были во дворике возле дома, где был уже установлен переносной телескоп. Этот дом с двориком и маленьким садом принадлежал художнику Виктору Васнецову, и теперь там дом-музей его имени. Но в те годы музей с его экспонатами не субсидировался, и детям художника пришлось закрыть его. А для того, чтобы избежать "уплотнения", они поселили в нем дружественную им семью астронома Василия Воинова[2]. Мы пришли якобы тоже посмотреть туманность, Луну, звезды и вообще все, что захочет нам показать старый "звездочет" (как мы его прозвали). Но смотрели, конечно, на того, кто вскоре стал самой яркой звездой нашей жизни. Внешность его впечатляла: высокая худая фигура, очень худое смуглое лицо (лицо "голодающего индуса"). Великолепный лоб с откинутыми назад волосами. Крупный, но тонкий, красивой формы нос, четко очерченные губы и две продольные бороздки у краев худых щек. Глаза карие – их нельзя было назвать ни большими, ни красивыми, но была в них какая-то особая значительность... Он был сух, замкнут, строг, ни разу не улыбнулся, от настойчивых приглашений хлебосольных хозяев – зайти в дом попить чаю – отказался решительно. Наверное, эта его сухость была довольно понятной реакцией на слишком уж настойчивые атаки со стороны моей сестры: с места в карьер – приглашение к себе и ф-р-р-р! – с треском распускаемый павлиний хвост всяких соблазнов: она-де была знакома с Максимилианом Волошиным, и у нее есть его стихи, а ее мать – переводит стихи, и даже, что у нее есть коллекция интересных камешков... А он, буквально прижатый к забору дворика, каменел все более и отмалчивался. Все же ей удалось заполучить номер его телефона и всучить ему наш с просьбой позвонить – когда он сможет прийти. (Свидетель этой сцены – наш старый знакомый – говорил потом, смеясь и покачивая головой: "Ай да Танечка!"). Но вот проходит неделя, вторая, третья, а он все не звонит! Еще неделя, еще... Значит, и ждать больше нечего. Тогда Таня решилась – была не была – последняя попытка! – и позвонила сама. И он пришел!.. Сначала все такой же строгий, официальный, но от нашего ли восприятия нескольких его лирических стихотворений, которые он нам прочитал, от маминого ли, несмотря на преклонный возраст, поэтического облика – только он постепенно оттаивал и уже легко согласился на следующую встречу. И стал приходить. Не так уж часто – ведь знакомых и друзей у него очень много, да и жил он от нас далеко (в Малом Левшинском переулке, а мы – возле старого Ботанического сада). Но все же довольно регулярно, примерно раз в две-три недели. И каждый раз читал свои стихи, немного – около десяти. С каждым разом он становился откровеннее с нами, все глубже вводя нас в свой потаенный мир. А мир этот был так необычаен, так высок, что дух захватывало!.. Сначала он читал только совершенно "нейтральную" лирику, большей частью о природе. Впрочем, и в ней встречалось у него какое-нибудь слово, какая-нибудь "изюминка", делавшая эти стихотворения непригодными для официальной печати. Затем уже стихи, связанные с его душевными переживаниями. И только, когда наше знакомство стало переходить в дружбу, – те стихи, в которых он касался нашей тяжкой действительности. Помню, кажется во второй или третий свой приход, он спросил, какое из прочитанных стихотворений больше понравилось? Мама назвала "Мимозу". Таня выбрала "Чтоб лететь к невозможной отчизне..." А я выбрала совсем в ином роде: За днями дни, дела, заботы, скука, Да книжной мудрости отбитые куски. Дни падают, как дробь – их мертвенного стука Не заглушит напев тоски. Вся жизнь – как изморозь, лишь на устах Осанна, Не отступаю вспять, не настигаю вскачь – То на таких, как я – презренье Иоанна: Не холоден и не горяч !..[3] Когда я назвала эти стихи, он всем корпусом повернулся ко мне (он сидел близко, но боком) и посмотрел мне в глаза. Нет, он не в глаза смотрел, а через них – в душу всматривался. И столько глубочайшей значительности, столько серьезнейшего внимания души к другой (быть может, родственной) душе было в его магическом взгляде, что с этого дня я поняла, что он не только большой поэт, но и необыкновенный человек. Но мне стало неловко, что там, куда он погружает свой взор, он не увидит ничего значительного... И я опустила глаза. А когда вновь взглянула на него, то увидела уже обычное выражение лица. Вообще, лицо его было чрезвычайно выразительным, особенно глаза. На посторонних людей он мог производить впечатление желчного человека. Но для близких ему людей глаза его светились порою такой доброй, любящей улыбкой – все лицо освещалось ею. Смеялся он, всегда старательно сжимая губы, отчего становился немножко смешной. А это, оказывается, потому, что у него были плохие зубы. В разговоре же они были совершенно незаметны, по крайней мере я их не видела никогда. Смеялись же и улыбались у него в основном глаза, и тогда они становились даже светлее, как будто освещенные изнутри теплым светом. Садясь, он сильно сгибал спину: у него было какое-то заболевание позвоночника. Походка у него была стремительная, даже какая-то летящая. Наша знакомая, Евфросинья Михайловна Проферанцева[4], через нас узнавшая его и немного знакомая с оккультизмом, говорила, что такая походка бывает у людей, отмеченных некой сверхчеловечностью... Когда он не сидел, то держался прямо и часто в естественно живописных позах. Особенно запомнилась красота его позы, когда он стоял в дверях между двух наших комнат, облокотившись о раму двери, с папиросой в руке, которую изящным жестом подносил ко рту. Да – наш Даня был заядлым курильщиком! Но ему все прощалось: что поделаешь, – говорили мы, – и на солнце есть пятна! Когда он читал свои возвышенные стихи, лицо его часто становилось вдохновенно-прекрасным, как бы излучающим какую-то особую, мощную духовную красоту, подобно лику архангела. Оттенки голоса тоже были очень разнообразны – в разговоре более высокие, а при чтении стихов – он как бы настраивал его на более низкий тембр. И читал он свои стихи замечательно! И уж, разумеется, без этого пафосного завывания, свойственного большинству современных поэтов. * * * Вскоре мы сменили квартиру и поселились в доме на углу Никитских ворот и улицы Станиславского. А это было уже, к нашей общей радости, сравнительно недалеко от Малого Левшинского. Дом у Никитских ворот буквально пророс грибковой плесенью от сырости и старости. По слухам, до революции здесь была типография какого-то крупного фабриканта. Мы стали жить втроем в полутора комнатах. В главной комнате было 17 кв. метров и во второй – 4 м. Эта последняя была выгорожена из лестничной площадки, и туда вела из нашей большой комнаты фанерная дверь сквозь дыру в капитальной стене. В этой кладовке, в которой было нормальное окно во двор с одиноким деревом, умещались двустворчатый шкаф и стоявшая стоймя длинная вещевая корзина. На кирпичах стояла железная сетка, на которой спала Таня, желавшая иметь отдельную комнату. Эта четырехметровая комната обладала звукоизоляцией, что давало нам возможность слушать стихи Даниила, не опасаясь постоянно любопытствующих соседей. <...> Даниил Леонидович стал бывать у нас чаще, и дружба наша крепла. Настолько, что довольно скоро мы стали звать его – и он нас с сестрой – без отчества. Мы были в то время сравнительно молоды: ему 31 год, нам с сестрой – около того. Маму же он называл всегда, четко выговаривая, – Мария Васильевна, а не Марья Васильевна (как многие для краткости). Даже и в такой мелочи сказывалась в высшей степени свойственная ему эстетика слова. С комическим ужасом рассказывал он, что в детстве одна его няня звала его "Да-ню-ся!". Обычно он читал что-нибудь свое или рассказывал эпизоды своей жизни, иногда приносил какую-нибудь интересную книгу или понравившиеся ему стихи. Разговаривали на темы, связанные с литературой и религиозными верованиями. Конечно, в основном говорил он, и как говорил! Он несомненно владел даром слова. Как свободно он владел речью – культурной, "аристократической" и вместе с тем не шаблонной! Ни разу не слышали мы в его разговорах ни вульгаризмов, ни запинок в поисках подходящего слова, ни "мычания", ни машинального повторения каких-нибудь лишних словечек. Но что было самой отличительной чертой всех его высказываний, – это то, что к любому вопросу он подходил со спиритуалистических позиций, непременно выделяя то, что полезно для духовной жизни и что вредно. Например, он как-то говорил об актерской деятельности, что несмотря на ее творческий характер, она вредит духовной жизни актера, так как заставляет его постоянно вживаться в чужое "я"[5]. Приблизительно на ту же тему – об опасности менять свое человеческое лицо – у Дани была задумана, но не осуществлена вещь, смысл которой состоял в том, что люди, принужденные долгие-долгие годы носить маску, обретя наконец возможность снять ее, не смогли сделать этого, так как маска уже срослась с их кожей[6]. Превыше всего он ценил в каждом человеке его единственное, неповторимое "я". И, разумеется, духовные искания и духовный рост его духа, его сокровенной и высокой монады. Помимо индивидуальных духовных исканий, у Дани была интересная теория, трактующая исторические духовные циклы, охватывающие большие массы людей и даже целые народы. Нечто вроде своеобразной кривой: разгорание, подъем, взлет духовности, затем спад, затухание, падение до низшего уровня бездуховности. Затем новый подъем, новый спад и т.д. Каждый цикл мог охватывать большие или меньшие периоды, больший или меньший круг стран и народов, достигать большей или меньшей высоты. К сожалению, я не помню, как располагал Даня эти циклы во времени и в пространстве. Помню только, что сущности циклов имели соответствующие окраски: от золотисто-голубой, светло-лучезарной вверху до кроваво-багровой внизу. В моем кратком изложении все это звучит примитивно по сравнению с тем, как он умел об этом говорить. Он воистину был волшебником слова. Будучи глубочайшим мистиком, он умел находить нужные слова даже для почти уже невыразимого. А там, где кончается все видимое, мыслимое и выражаемое привычными понятиями, там он сам создавал новые понятия, новые слова, новые наименования. Я спросила как-то, почему он дает всему выдуманные им самим имена (всему, что находится вне известного всем мира), он ответил: – Потому же, как и географы дают имена вновь открываемым ими горам и рекам. Столь же необычным свойством его личности было то, что он воспринимал окружающий мир не только зрением, слухом и обонянием, но также и осязанием. Хождение босиком было прямо-таки его страстью (между прочим, отец его, писатель Л.Н.Андреев, также любил ходить босиком). Теперь мы знаем, что Даниил Леонидович оставил нам целый цикл стихов "Босиком". Он ходил босиком в любую погоду, и даже по снегу. Даже по московскому асфальту он предпочитал ходить босиком, и если не часто делал это, то лишь потому, что на него оглядывались. Но он так жалобно сетовал на противную ему необходимость надевать обувь, что я, тогда еще не зная в чем суть, старалась найти для него какие-нибудь самые легкие, открытые сандалии. Но он сказал, что это не выход из положения, так как "вся соль в подошвах". (При этом он виновато улыбнулся на такой нечаянный каламбур). Что же он придумал? Взял тапочки и вырезал из них подошвы! Ноги казались обутыми, но представляю себе недоумение окружающих, когда он поднимался по ступенькам трамвая и снизу были видны его босые пятки... С первым снегом он доставлял себе удовольствие походить босиком поздним вечером, когда во дворике было темно и мало прохожих. Если же он читал стихи, будучи необутым, то можно было заметить, что он слегка отбивает такт большим пальцем ноги. Довольно скоро после переезда на новую квартиру[7] я попыталась выразить в посвященных ему стихах впечатление от его творчества. И хотя сами по себе они не представляют какой-либо поэтической ценности, все же приведу их здесь, так как они в какой-то мере выражают то, что его творчество давало нам, каким оно было для нас насущным. И конечно же, не только для нас. Благо тебе – Поэт! Во тьме наших душных дней Твой дар – как солнечный свет, Как ветер родных полей! Он на крыльях несет аромат Свежих трав и дыханье цветов – Расцветает волшебный сад За чертой озаренных слов. И входящим в оазис тот, Опаленным жаждой пустынь – Подаешь ты напиться вод, Омывающих воды святынь. Прозревающий Духа рассвет И нездешнего Солнца восход – Благо тебе – Поэт – Благословен твой приход!.. Набравшись смелости, – прочла ему. Он выслушал с очень серьезным лицом и попросил повторить. Но я передала ему листок. Позже я как-то выразила свое огорчение, что не могу дать ему что-то большое и хорошее, а он сказал: – Что вы... Вот хотя бы ваши стихи... Да, он был деликатный человек. Скажешь иной раз глупость (только позже поймешь это), а он никогда и ничем не даст понять этого. Так, например, я спросила как-то: – Уицраор – это Сталин[8]? – Нет. И совершенно никакого возмущения моей непонятливостью. Однажды он спросил меня: – Ирина, вам никогда не приоткрывалась щелочка в сознании, вы никогда не видели, кем вы были в прошлой жизни? – Нет, никогда. – А мне как-то открылась такая щелочка. Я узнал, что в прошлой жизни я был индусом, принадлежал к касте брахманов, но был изгнан за брак с неприкасаемой. У него была и поэма из индусской жизни, "Бенаресская ночь"[9], о прекрасной индийской девушке. С этой поэмой связано одно из его многих (как, наверное, у всех поэтов), увлечений, о котором он нам поведал. Расскажу эту историю, как помню. Однажды он ехал в трамвае и на одной из остановок увидел девушку, которая стояла, держа в руках что-то вполне прозаическое, вроде бидончика для молока или продуктовой сумки, и, видимо, ожидая свой номер. Что-то в ее наружности поразило его, и он выпрыгнул на ходу из трамвая (в то время еще не было закрывающихся автоматически дверей). Но, будучи очень застенчивым, не решается подойти к ней. Входит вслед за ней в ее трамвай и едет до железнодорожного вокзала, проходит с толпой через контроль на перрон, но у него нет перронного билета, и он остается... И потом ездит к этому вокзалу и ждет у перрона. Уж не помню, сколько дней или недель и по скольку часов ждал там, только однажды он увидел ее опять! А так как он понимал, что невозможно будет объяснить ей кратко, почему он обратился к ней, то он брал с собой эту индийскую поэму, где говорилось о любви, о предназначенности друг другу и прочих поэтических вещах. <...> Он подошел к ней, подал эту тетрадь: "Прочтите", – и спросил, когда она снова будет в Москве. Через сколько-то дней он опять помчался на вокзал... Вот она, идет! Что-то она ему скажет?! Она возвращает ему тетрадь со словами: "Я замужем". – И все. Столь неожиданно прозаическое окончание романтически начавшейся истории нас разочаровало. А Даня сказал: – Она была права. А вот еще одно увлечение, уже в другом роде. Как-то шла в Москве серия картин о Нибелунгах. На одну из них он ходил семьдесят раз! – Что вас в ней так привлекало? – Образ Кримгильды[10]. Я ходил, как на свидание. И хотя Даня довольно часто увлекался разными женщинами, но вместе с тем он был совершенно уверен, что для каждого человека существует только один единственный, тот, кто будет для него "она" или "он". Важно только встретиться с ним и узнать его... Он как-то сказал, что Татьяна Ларина хотя бы потому уже выше Онегина в духовном отношении, что она "узнала" его, а он ее – нет. Как-то раз Таня, со свойственным ей апломбом, заявила: – Больше всего я ценю в людях мужество. Даня опустил глаза и деликатно промолчал. Но когда я спросила ее: – А разве нельзя представить себе мужественного негодяя? Он поддержал меня: – Молодец, Ирина! В другой раз мы спросили его: какое человеческое свойство он ценит больше всего? – "Доброту", – ответил он. И он сам обладал этим свойством. А когда, уже во время войны, мы с ним ездили однажды за город и шли по шоссе, Даня вдруг присел на корточки. Оказывается, он увидел торопливо переползавшую шоссе гусеницу, и чтоб спасти ее от проходящих машин, взял и забросил подальше в траву. Все его друзья и знакомые, а их было у него много, начиная с тех, с кем он учился еще в школе, любили приходить беседовать с ним о своих душевных проблемах с глазу на глаз. Но так как все они где-то служили, то приходили по вечерам. А у него была привычка работать над своими вещами вечером и ночью (часов до пяти утра, после чего он спал часов до двенадцати). Видимо, дневной шум, несмотря на отдельную комнату, все же мешал ему (а может быть, и наследственность: отец его любил писать по ночам). Даня жаловался, что эти вечерние визиты мешают ему и перебивают ему работу. Мы советовали: – А вы отказывайте, скажите, что заняты. – Невозможно! Если кому-то необходимо поговорить со мной... – Но ведь у вас же есть и обязанность по отношению к вашему таланту. – Никакой талант не освобождает человека от его человеческих обязанностей. Я до сих пор не сказала о его семейном положении и на какие средства он существовал. Жил он в одной квартире со своими приемными родителями, которыми был взят после смерти матери в двухнедельном возрасте. Елизавета Михайловна Доброва была родной сестрой его матери, он звал ее мамой. А ее мужа – дядей, наверное потому, что жив был его родной отец, у которого Даня в детские годы гостил иногда летом. Филипп Александрович Добров был личностью незаурядной во всех отношениях, и Даня очень любил его. По профессии врач, из тех последних могикан медицины, которые только с состоятельных пациентов берут деньги, он был в то время на пенсии, но имел частную практику. Дома он не принимал, для этого не было места, и сам ходил по больным. Как-то, будучи у Дани, Таня услышала из другой комнаты через коридор звуки рояля. – Кто это играет? – Дядя. – А что это он играет? – Он импровизирует. Филипп Александрович сказал однажды: "Музыка – это стихия, без которой невозможно существование моей души''. Ради того, чтобы прочитать древних авторов в подлинниках, он уже в преклонном возрасте изучил греческий язык. Как-то он был у больного недалеко от Никитских ворот и зашел к нам. Он был уже глубокий старик, и у него было больное сердце. Мы жили на втором этаже, и все же заметна была сильная одышка у него, когда он вошел. Большинство же его пациентов жили в старых домах без лифтов, многие на верхних этажах. – Филипп Александрович, ведь вам уже трудно при таком сердце взбираться по лестницам! – Ничего, мы, старая гвардия, умираем стоя! |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 06-05-2007 18:12 |
|
И действительно, однажды он вернулся от больных, вошел в ванную, чтобы вымыть руки, упал и через два часа, не приходя в сознание, скончался... Это было в апреле 1941 года. Я не была на похоронах, так как в это время училась на курсах лесопатологов под Воронежем. Когда вернулась, была только на панихиде в их доме – был 40-й день со дня смерти. Мне сказали, что на похороны съехалось много людей, частью даже никому из семьи не знакомых. И выяснилось, что Филипп Александрович многим помогал, чего даже жена его не знала. И столько хорошего было сказано о покойном, что Даня воспринял похороны, как некое торжество Духа. В раннем детстве самым любимым человеком была для Дани "Бусенька", как он ее звал. Это была мать его и родной, и приемной матери. Она умерла, когда Дане было шесть лет. Дане сказали, что она уехала к маме. А он еще раньше знал, что мама его в раю. И он решил отправиться вслед за своей Бусенькой. Но так как он уже понимал, что для этого надо сперва умереть, то он и решил осуществить это! Он хотел броситься с моста в реку, и его едва успели схватить. Ко времени нашего с Даней знакомства с ними жила еще Данина тетя[11], сестра его покойной матери и приемной мамы. Все они были уже очень стары. У Добровых были сын и дочь, к этому времени тоже уже немолодые. Сын с женой жил отдельно. С ним у Дани не было внутренней близости. А дочь со своим мужем жила вместе с родителями, в отдельной комнате, но хозяйство у них было общее. Муж ее, Коваленский, который был старше Дани лет на десять, имел на него в юности довольно большое влияние. Даня говорил, что это очень талантливый поэт-мистик и писатель – "талантливее меня". Подобно Дане, он также никогда и нигде не печатался и зарабатывал на жизнь переводами. Даня говорил про него с оттенком уважительной зависти, что он, в противоположность ему, способен творить, не надеясь ни на каких читателей[12]. Кроме того, в личности Коваленского было нечто загадочное, однако не в наружности – я его видела один раз у Дани. Это был голубоглазый блондин с типично интеллигентским несколько барственным лицом. Но один из главных персонажей Даниного романа (для которого он послужил прототипом) был окружен туманом какой-то тайны, а впоследствии с ним должны были происходить в романе совсем уж необычайные вещи, вплоть до смерти с последующим воскресением... У Дани не было законченного высшего образования. После школы он несколько лет учился на Высших литературных курсах, но не закончил их. Первые годы после окончания учения он существовал на средства от переиздания книг своего отца. Потом, не имея, в сущности, никакой специальности, зарабатывал от случая к случаю, как художник-оформитель. Талантом в этой области он вовсе не обладал, но сын его приемных родителей был художником и на авральные работы при устройстве всевозможных выставок привлекал и Даню. Тогда уж он бывал занят с утра и до ночи, пока не закончится эта срочная работа. Зато потом сколько-то дней, а иногда и недель он был уже совершенно свободен, что ценил чрезвычайно, находя это совершенно необходимым для продолжения своего творчества. Конечно, какая-нибудь "служба" с обязательным ежедневным на нее хождением была бы для его творчества губительной. Но случалось и так, что Даня сидел без денег, а работы не было. Так что один раз я в своем лесном учреждении нашла для него маленький заработок: сделать подписи к экспонатам разных лесных вредителей. Даня приходил на мою работу дважды: взять заказ, а потом сдать его. После он сказал мне: "Как странно мне было видеть вас среди всех этих людей!" (А мне было странно видеть его среди них). Видимо, мои сотрудники ему не понравились – все они были людьми ограниченными. Но и его работа им не очень-то нравилась; поэтому я и сказала выше, что талантом в области графики он не обладал. Тратил он на себя мало. Одевался очень скромно. Единственная хорошая вещь у него была – летнее пальто (курток тогда не носили). Зимнее пальто было старое, очень тяжелое, еще отцовское, с давно тогда уже вышедшим из моды воротником шалью. А самого в Москве нужного, демисезонного, у него не было вовсе. Костюм – единственный и очень скромный. Обычно простая белая рубашка без галстука. Но, несмотря на недостаток средств, ему и в голову не приходило зарабатывать деньги своим талантом, хотя он писал стихи настолько легко, что, конечно, без труда мог бы написать на любую тему, которая могла бы "пройти". Но он был очень принципиален по отношению к своему творчеству, и при его жизни не было опубликовано ни одной строчки его стихов: перо его было непродажно. Чем он был богат, так это только книгами. Большая часть стен в его комнате была уставлена шкафами и полками с книгами[13]. К сожалению, не было случая просмотреть его библиотеку, хотя бы бегло. Дело в том, что почти всегда это он приходил к нам; мы же, то есть Таня и я, бывали у него очень редко, только в тех случаях, когда он хворал и не выходил из дома. Мама же не была ни разу. И визиты наши были краткие, хотелось не книги смотреть, а хоть немного поговорить с ним. Кроме книжных шкафов в его комнате был довольно большой письменный стол, стоящий боком к окну, и диван, служивший ему также постелью. Другой мебели не помню. На столе – лампа под голубым абажуром, воспетым им в одном из стихотворений[14], немного книг и бумаг и несколько фотографий в рамках. В простенках между шкафами – фотографии его любимых писателей, и в первую очередь Владимира Соловьева, которого он любил и почитал чрезвычайно. А на самом свободном месте стены – большая и исключительно хорошая репродукция "Джоконды" в художественной раме. К этому шедевру у Дани было совсем особое, любовно-мистическое отношение[15]. (Интересно, что единственно не нравившееся ему в Джоконде – это как раз то, что у нее действительно красиво – ее лилейные руки). Впрочем, такое же отношение было у него и к другим гениальным произведениям искусства во всевозможных его областях. Мне невозможно передать это своими словами, но очень приблизительно так: он считал, что они пришли откуда-то "оттуда", из потусторонних миров и, будучи воплощены мастерством гения, обрели живую, реально существующую душу, которая в свою очередь уходит в "небеса искусства", оставляя здесь, на земле, свое материальное отображение. ...И встает в небесах Искусства Чистой радугой их двойник[16]. Их души там; в краю небес, Там совершенны и нетленны Прообразы живых чудес Руана, Кельна и Равенны. (Из цикла "Крик на запад"[17]) Как-то была в Москве выставка фотографий лучших образцов европейского зодчества. И конечно же, Даня пошел на нее. И потом рассказывал нам с чрезвычайной заинтересованностью и удовлетворением, как кто-то за его спиной прошептал: "Вот они, святые камни Европы". У Дани есть цикл "Святые камни", но это были святые камни России. И не обязательно буквально камни, то есть зодчество, но и вершины творчества также в других областях искусства и даже науки. Вообще у Дани по отношению ко всем произведениям искусства было всегда свое собственное, оригинальное отношение. Никакие авторитеты не оказывали давления на его личное мнение. Однажды, уж не помню по какому поводу, он сказал: – Этот фальшивый и чувственный Стендаль![18] – Чему я обрадовалась, так как это совпадало и с моим ощущением его. Перечитывал как-то "Дворянское гнездо": – Какая благоуханная вещь! Не любил Наташу Ростову, которая обычно всем, начиная с самого Толстого, кажется очаровательной. Я хотела возразить, что она ведь обладает наиболее ценимым им свойством – добротой. Но разговор прервался и больше не возобновился. Но возможно, что он так относился к ней из-за ее бездуховности[19]. И вместе с тем он был очень терпим к чужим взглядам. Не согласишься с его оценкой чего-либо – он улыбнется своей доброй улыбкой и не настаивает на своем. Мало того, в его улыбке был при этом даже какой-то оттенок удовольствия, видимо оттого, что у другого свой личный, индивидуальный взгляд на вещи. Конечно, Даня не мог не понимать величины своего дарования, но вместе с тем он обладал редким в таких случаях отсутствием не только тщеславия, но даже писательского самолюбия. Хотя он и сказал как-то, как бы сознаваясь в своей слабости: – Я, кажется, не мог бы писать, если бы знал наверное, что никогда никто не прочтет этого. Он был совершенно не обидчив на критику (признак высокой души!). Хотя мы и старались, чтобы, когда у нас гостил Даня, больше никого не было, чтобы не отвлекаться от него, случилось как-то, что пришел при нем наш знакомый, умный и одаренный человек, бросивший свою университетскую специальность и ставший художником. Мы попросили Даню прочитать для него несколько стихотворений. Но тот, ничего не похвалив и кое-что покритиковав, скоро ушел. Мы думали, что Даня будет хоть сколько-то обижен. Ничего подобного! Он сказал только: – Какой симпатичный! У него не было даже самоуверенности, которая бывает обычно при сознании своей значительности. Так, например, он очень интересовался творчеством и личностью М.Волошина и высоко ценил его. И, конечно же, ему очень хотелось бы познакомиться с ним лично. И был для этого подходящий случай: Волошин приехал на некоторое время в Москву и должен был где-то выступать. Даня поехал туда же и неожиданно столкнулся в дверях с самим Волошиным. Казалось бы, чего еще желать? Но... Даня не решился обратиться к нему! А когда через несколько лет поехал в Коктебель, Волошина уже не было в живых. Даня побывал лишь на его могиле и запечатлел ее в своем стихотворении, которое так и озаглавлено: "Могила Волошина". Помимо "Могилы Волошина", у Дани было еще несколько стихотворений, посвященных Пушкину, Грибоедову, Гумилеву, Блоку, Хлебникову[20]. Но если о Волошине он пишет с чувством глубочайшего уважения, у Пушкина просит благословения и называет его учителем, то в стихах о Блоке он дважды называет его братом, и это понятно: не было, наверное, другого поэта, столь же близкого, столь же родственного Дане, как Блок. У Дани была теория "бездны". Мне трудно передать это, тем более, что в основном я слышала о связанных с нею поступках уже после его смерти, от его жены[21]. Самым для него неприемлемым и нетерпимым было свиноподобное состояние, более даже, чем какое-либо преступление. Он как-то говорил нам, что Иуда в каких-то иных мирах совершает миллионнолетний труд духа, и в конце концов искупит свой грех и будет прощен. Мы познакомились с Даней, когда все его творчество было насквозь пронизано светлой, возвышенной духовностью, и мы были рады, что оно совершенно противоположно мрачному творчеству его отца. * * * Он в высшей степени был поэт "милостью Божией". Все его чувства были исключительно сильны и глубоки, и у него был дар выражения их. Для него писать стихи было так же легко, как соловью петь весной свои песни. Он как-то сказал, что прозу ему писать труднее, чем стихи. Мы удивились: "Но ведь в прозе не нужно подыскивать ни рифмы, ни размер?" – Что вы! В прозе тоже нужен внутренний ритм, а это труднее. Как-то был разговор об отсутствии свободы творчества – о цензуре. Даня сказал, что, будь его воля, он разрешил бы во всех видах искусства полную свободу для всех и всяческих направлений. Но добавил: – Единственное, что я считал бы нужным запретить, это порнография. И конечно же, он более, чем кто-либо другой страдал от невозможности поделиться своим творчеством с широким кругом жаждущих, а не с несколькими десятками ближайших друзей и знакомых. И вместе с тем, он, приходя к нам, никогда не жаловался на судьбу, не хандрил, но всегда приносил с собою атмосферу насыщенной интеллектуально-духовной жизни. И лишь один раз он был молчалив и печален, сказал только: – Какая-то тоска у меня сегодня... Но даже в обычной будничной жизни его впечатлительная натура умела видеть и находить мельчайшие капельки поэтического нектара и претворять их в мед поэзии. С каким подъемом реагировал он на каждое хоть сколько-нибудь оригинальное, живое слово, на каждую новую для него, понравившуюся ему мысль и радовался при этом, как дитя. И тем более, если это касалось искусства, в особенности литературы и поэзии. Помню, мы говорили о книге Г.Мейринка "Голем"[22], которую он принес нам для прочтения. Я сказала что-то о том особом, архитектурно-монументальном впечатлении, которое производят слова, напечатанные отдельно и очень крупным шрифтом. Уж не знаю, что ему так понравилось, только он вдруг радостно заулыбался (как всегда, сжимая при этом губы). Задвигался на стуле и от удовольствия потирал ладони. Не тогда ли зародилась у него впервые идея, которую он осуществил через много лет, назвав свою книгу "Русские боги" поэтическим ансамблем? Понравилось ему также выражение "продленная точка превращается в запятую", – сказанное мною по поводу того, что в одних своих стихах после, казалось бы, уже концовочных строк, он написал еще несколько. Очень понравился ему также образ "сердце молитвы". Так как этот эпизод связан с его мистичностью, приведу его полностью. Однажды я увидела странный сон: я быстро лечу куда-то вниз головою по какому-то подобию не то трубы, не то шахты, куда-то вниз, вниз, внутрь земли. И там, в небольшом, слабоосвещенном помещении вижу Даню, сидящего в уголке. И слышу чьи-то четкие слова: "если спустишься в самое сердце молитвы, то найдешь там того, за кого молишься" (или "кого любишь" – не помню). Даня выслушал с глубоким вниманием и очень серьезно сказал: – Только это был не сон. Вы на самом деле были "там". Нравилось ему также, как я рассказывала о разных животных. О моей встрече в лесу с волком он написал стихотворение, вошедшее в цикл "Босиком"[23]. Помню, какой милой улыбкой светились его глаза с искорками смеха в них, когда я рассказывала ему о разных зверушках, и особенно о мышках. Как я, держа пойманную мышку двумя пальцами левой руки за хвостик, правой зарисовывала ее, а она, сперва лишь немножко повырывавшись, уселась на задние лапки, и держа в передних кусочек булки, который я ей дала, принялась преспокойно уплетать его, очень мило шевеля при этом мордочкой и усиками. – Как хорошо вы рассказываете! Вот Таня не умеет так... <...> Однажды я призналась ему, что в ранней молодости переживала, что у меня такие некрасивые руки, да к тому же еще испорченные грязной работой. Даня улыбнулся своей доброй улыбкой: "А я, когда был у вас в первый раз, и вы разливали чай, как раз подумал: какие милые руки..." – И, помолчав, – "Вот у Тани нет в руках этой "милости", – и опять улыбнулся, уже на себя, за такую нечаянную игру слов. Вообще он любил и умел говорить своим друзьям приятные вещи, но всегда только то, что действительно чувствовал и думал. За несколько лет нашей с ним дружбы он ни разу не сказал ни слова неправды. Он настолько был рыцарем слова, что даже не предполагал и в других (в кого он уже поверил) возможности играть словами, актерствовать с их помощью. И благодаря такой вере в слова он иногда оказывался совершенно слепым по отношению к тем, кто умело пользовался ими. И это наряду со сверхчеловеческой зрячестью по отношению к областям невидимым, к потустороннему! Я как-то сказала ему: "Вы любите говорить приятное". На что он неожиданно горестным, сожалеющим и раскаивающимся голосом воскликнул: "О да!" Впрочем, я поняла, почему таким голосом. Дело в том, что Даня обладал какой-то магической притягательностью и обаянием для всех, кто хоть сколько-то мог понимать масштабы его личности и творчества. В него влюблялись (в самом высоком смысле этого слова) и мужчины, и женщины, но последние, в силу своей большей эмоциональности, чаще и сильнее. Но были и такие люди, которые относились к Дане отрицательно. Это были узко-церковные ортодоксы, которые предпочитают даже полных атеистов людям так широко верующим, как Даня. Они не прощали Дане широты его веры, того, что, помимо православия, он чтит и все другие высокие религии. По-мелочному, нехорошо придирались они к нему, выискивали его погрешности даже там, где их и не было. И конечно же, подобные люди не украшают православия. Мы, все трое, разумеется, тоже подпали под магическое обаяние Даниной личности, и наше отношение к нему было не только дружбой, но и влюбленностью. По аналогии с Блоком: Чуковский пишет в своих воспоминаниях: "Других поэтов мы любили, в Блока – были влюблены"[24]. У каждой, конечно, на свой лад. Что касается меня, то мое чувство к нему было так сильно, что я вспоминала даже из Блоковского "Возмездия": "Она – почти сошла с ума"[25]. Но ведь и сказано же было кем-то, что настоящая любовь та, которая готова на безумные поступки ради любимого существа... Правда, жизнь не предоставила мне такого случая, и лишь один маленький поступок совершила я ради Дани: во время войны он периодически страдал из-за отсутствия папирос, пытался курить какую-то сухую травку, которая не содержала никотина и не давала ему никакого удовлетворения. И вот однажды, в такой период, я увидела на противоположной стороне улицы нарядную даму, которая вынула из сумочки пачку папирос и закурила... Я живо представила себе, какое удовольствие отразится на лице Дани, если он сможет закурить настоящую папиросу. Я перебежала улицу и... выпросила одну штуку! (для себя-то я, разумеется, не стала бы просить ничего). Однако чувство мое, как бы оно ни было сильно, не содержало в себе ничего материально-физического. Это была влюбленность в его архангелоподобный внутренний облик. Он был для меня чем-то вроде бесплотного Гения поэзии. Уже позже я даже с некоторым удивлением вспоминала, что мне за все время нашего знакомства ни разу не хотелось поцеловать его. Силой своей духовности он как бы заряжал других и заставлял их тянуться ввысь... Ты пришел не в сверкающих латах, Но сияли твои черты Над плечом твоим остро-крылатым, Светлый рыцарь моей мечты! В душе по извечному небу, Как солнце, проходишь ты, Собрат лучезарному Фебу, Светлый рыцарь моей мечты! И к тебе из праха земного Я расту... как растут цветы. В жизни нет мне солнца иного, Светлый рыцарь моей мечты! Суждено мне с тобой разлучиться, Не забыть тоску пустоты... Но в мирах ты будешь мне сниться, Светлый рыцарь моей мечты! Эти стихи я ему не прочла, боясь, чтобы он не понял их превратно. К большому сожалению, эти несколько лет до войны мне пришлось видеться с Даней только в зимние месяцы. Дело в том, что я в эти годы работала по лесоустройству и должна была на полгода – с мая по октябрь – уезжать на "полевые работы" в лес. А мама и Таня встречались с ним, конечно, и в летние месяцы. В 1939 году они провели вместе месяц в Малом Ярославце. Мама с Таней снимали комнату, а для Дани присмотрели светелочку поблизости, так что питались они вместе. Вдвоем с Таней они совершали длительные прогулки по окрестным лесам и лугам, что, естественно, очень сблизило их. Видимо, могло казаться даже, что их дружба переходит в роман. По крайней мере, Е.М.Проферанцева, у которой мы снимали комнату, сказала маме словами из "Евгения Онегина": ...Я выбрал бы другую, Когда б я был, как ты, поэт. Когда он был увлечен своей работой и отказывался поэтому от прогулки, Таня, разумеется, не настаивала, а он говорил по этому поводу: "Какое всепрощение!" У Е.Проферанцевой был крокет, и они иногда с увлечением играли в эту игру, теперь уже вышедшую из моды, но к которой Даня был пристрастен еще в детстве. В игре проявилась еще какая-то сторона Даниного темперамента. Однажды он "промазал" какой-то ответственный ход и от досады так стукнул молотком о землю, что сломал его! А потом очень "угрызался"... Да он и вообще был склонен испытывать угрызения совести, иногда даже из-за пустяков. Однажды у нас за столом он неосторожно уронил чашку на пол, и она разбилась. Как он расстроился! |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 06-05-2007 18:18 |
|
А я все дни, с раннего утра и до вечера, проводила в лесах. Слагала стихи о впечатлениях дня. Вернувшись в Москву, прочитала Дане. Он попросил повторить, а затем воскликнул: "Какое у нас с вами сходное восприятие природы!" Особенно понравилась ему последняя строфа: Лес мой, лес – мой хозяин строгий. Кому дебри твои хороши, Тот найдет на своем пороге Часть утраченной древней души. У него есть цикл стихов "Древняя память", и не исключено, что я подсознательно заимствовала у него это слово. Зато и он позаимствовал у меня понравившееся ему сочетание – "хозяин строгий" (хотя и в совсем другом контексте) и сам мне об этом сказал. Однажды Даня развивал нам довольно подробно свою теорию о том, что в духовном плане, в противоположность физическому, оплодотворяющим началом является женщина. В другой раз мы с ним оказались вдвоем в нашей квартире. Почему-то запомнилась такая незначительная подробность: он стоял у стола в большой комнате, а я в дверях маленькой. У него было какое-то чрезвычайно серьезное и значительное выражение лица. Он повторил вкратце эту свою теорию, а потом, стоя ко мне боком, не гладя на меня, произнес как бы про себя: "Вот вы принадлежите к числу таких женщин". Даня одно время, довольно длительное, носился с идеей "духовного брака". Подобный брак должен был состояться в его романе[26]. Но он там так и не осуществился, и впоследствии Даня, кажется, усомнился в его целесообразности. Даня хотел каждой из нас трех посвятить стихотворение, но не успел, так как в тот период был занят почти исключительно романом. Вместо этого он подарил каждой из нас по экземпляру из уже написанного. Маме и Тане – сборники стихов. А мне экземпляр романа с очень лестной для меня надписью: "Ирине Усовой, женщине с двойным именем: Марфы и Марии[27], которая так много помогала мне во время работы над этой вещью". Впоследствии, когда я уезжала на Колыму, чтобы поддержать человека[28], которого я тогда считала одним из тех лучших людей, которые и пострадали-то из-за своей "лучшести", я переписала и взяла с собой только несколько десятков его лирических стихотворений. Роман же побоялась взять, так как знала, что там погранзона и опасалась, не будут ли обыскивать мой багаж. Поэтому в 47 году он попал в руки МГБ, и Таню спрашивали по поводу этой надписи: "Это значит, что ваша сестра сотрудничала с ним?". На это она отвечала, что нет – помощь была чисто материальная. * * * Я думаю, что Даня ценил в нас не только горячее отношение к его творчеству и к нему самому, но и понимание его творчества и поэзии вообще. По крайней мере, он считался с нашей критикой и кое-что переделывал, конечно, мелкие детали. Иногда он просил нашей помощи, например, придумать для романа такое женское имя, которое бы состояло только из двух слогов, но чтобы при этом было полное, не уменьшительное. Мы называли многие, но он все искал чего-то. Или придумать название для его новой поэмы, – над этим все трое долго раздумывали. В конце концов он остановился на моем варианте и назвал ее "Янтари". В свою очередь, мама всегда советовалась с ним относительно своих стихотворных переводов[29]. Он был доволен, когда мы что-нибудь хвалили, и огорчался, если что-то не доходило. Впрочем, я не помню, чтобы в тот период что-нибудь не нравилось. Даня обладал талантом любви. Если романтические увлечения его и менялись, то дружеские привязанности были крепки и нерушимы на всю жизнь. Но что бывает уж совсем редко – он умудрялся сохранить хорошие отношения даже с теми женщинами, с которыми отношения были прежде романтическими, он умудрялся превращать их в дружеские. Это вообще была его характерная черта: если уж он в кого-то поверил и полюбил, то ничто не могло его заставить усомниться в этом человеке. Вот пример: за несколько лет до знакомства с Даней я была в качестве гостьи в северном лапландском заповеднике. При мне приехал туда директор заповедника с женой. Этот директор на моих глазах совершил отвратительный поступок по отношению ко всем младшим сотрудникам заповедника, своим подчиненным – их было человека три-четыре (да и по отношению ко мне тоже). Позже, после знакомства с Даней, я узнала, что жена этого директора, оказывается, одна из его соучениц[30], с которыми его связывали узы дружбы. Я рассказывала Дане эту историю, стараясь не слишком огорчать его, смягчить ее роль тем, что она, возможно, ждала ребенка в это время и, может быть, плохо себя чувствовала. И все равно Даня воскликнул категорически: – Этого не может быть! Я хотела сказать, как же не может быть, когда я видела собственными глазами? Но получился бы неприятный разговор, и я промолчала. В первый раз я обиделась на Даню, но понимала: он сказал это не потому, что не верил моим словам, а лишь потому, что не мог поверить, что его друг мог быть хоть сколько-нибудь участником такого некрасивого поступка. Но он настолько ценил в каждом человеке его собственную индивидуальность, его единственное и неповторимое "я", что даже вовсе не положительные, а просто индивидуальные черты характера были ему милы. Конечно, это касалось тех, кого он уже успел принять в свое сердце. Как-то мама сказала ему, что Таня больше следит за порядком снаружи "в комнате", а не внутри (в шкафах, ящиках). А Ира, наоборот, – больше внутри, чем снаружи. И на первое, и на второе Даня улыбался с видом чрезвычайно довольным! Мало того, даже и отрицательные черты в уже полюбившемся ему человеке (если это было не что-нибудь уж очень скверное) никак не действовали на Данино отношение к нему. Однажды, когда я была у Дани, находясь под впечатлением очередного нахального поступка Тани по отношению ко мне, я спросила его, смягчая, как только можно, чтобы не задеть его чувств, – замечал ли он в Танином характере элементы нахальства? На что он, к моему удивлению, тотчас же, не колеблясь, отвечал – что, да, замечал! – но сказано это было с такой свойственной ему любовью и дружеской улыбкой, что стало ясно: эти "элементы" нисколько его не смущают и даже как будто наоборот – нравятся! (правда, он не знал никаких подробностей, и его-то лично эти "элементы" не затрагивали). А уж то, что мама до шестидесяти лет не научилась правильно сварить картошку или яйцо, заставляло его прямо-таки расплываться в умиленной улыбке... И вместе с тем, хотя он придавал такое большое значение наличию у каждого своего неповторимого "я", он чрезвычайно ценил во встречаемых им людях также и близкие и ему взгляды, вкусы, восприятия. И даже вплоть до таких мелочей, как сходство вкусов в еде. Он обрадовался как дитя, когда узнал, что я так же, как и он, люблю корицу! (возможно, потому, что дома не встречал в этом сочувствия). А любимой его ягодой была лесная земляника, к которой он относился с каким-то даже восторгом и воспел в стихах[31]. Наверное, от того, что она более, чем какая-либо другая ягода насыщена ароматами леса. Поэтому, если нам удавалось собрать или купить немного лесной земляники и сварить из нее варенье, то оно сберегалось только для Дани. Ел же он, хотя и аристократически, но со вкусом, с аппетитом, скорее, как едят собаки, в противоположность кошкам, которые даже к лакомому кусочку приступают с видом жеманной брезгливости. И вместе с тем, когда он обедал у нас уже во время войны, постоянно страдая от голода, никогда он не проявлял ни малейших признаков нетерпения, если обед немного запаздывал, и никогда не ел с жадностью. Единственное, что показалось нам не вяжущимся с его эстетичностью во всем, – это то, что чай он пил с блюдечка. В нашем представлении это связывалось скорее с купеческим или мещанским бытом. Но, оказывается, его отец пил чай так же, а Даня в детстве, наверное, видел это и перенял. * * * Однажды, кроме Дани, пришла к нам Е.М.Проферанцева. Только что я получила с Колымы письмо от Васи... Это было довольно редким событием, и Е.М.Проферанцевой и Дане хотелось знать, что он пишет, и она стала читать письмо вслух. Даня сидел рядом со мной. Сначала, как обычно, было сообщение о получении очередной посылки, затем краткие сведения о себе, кое-какие вопросы или просьбы. В противоположность всем его письмам, очень кратким и суховатым, это было значительно больше и содержало дорогую для меня фразу, дающую смысл моему существованию. Когда Е.Проферанцева прочла ее: "Если бы не Ваша помощь, я умер бы здесь от голода" – я оглянулась на Даню... и тут же, вздрогнув, машинально опять отвернулась, как от взгляда в запретно-потустороннее, как от некоего апокалиптического видения! Я не увидела ни фигуры его, ни лица, ни глаз, а только один необъятный сверхчеловеческий ВЗОР... Я так и не знаю, что это было... Но когда вспоминаю это мгновение, то в памяти встает строка из его стихотворения "Серебряная ночь пророка" (о видении Магомета): Между очами ангела – тысячи дней пути. А когда, через минуту, я решилась взглянуть на него снова, это видение уже исчезло... Я увидела опять нашего привычного Даню. * * * Даня абсолютно не принадлежал к числу людей, которые рассказывают о своих достоинствах и умалчивают о недостатках. Даже наоборот, я не могу вспомнить случая, чтобы он чем-то хвалился, а рассказы типа покаяния или исповеди были не раз. Иногда это были мелочи, а иногда и серьезные вещи. Как-то он рассказывал нам с большим юмором и живостью об одной своей хитрой проделке. По случаю окончания школы устраивалась вечеринка. Каждый должен был принести из дому на этот вечер какую-нибудь посуду. Даня вызвался принести вазочку для варенья, а так как вазочка была, видимо, довольно ценная, то дали ее ему только с условием, что он вернет ее обратно в целости и сохранности, что он и пообещал. Возвращаясь вечером домой, он завязал ее в салфетку и, о чем-то раздумывая, помахивал этим узелком. Вдруг при очередном взмахе узелок задел за фонарный столб и – о, ужас! – вазочка разбита! Что теперь делать? Как смягчить обиду и возмущение мамы? И Даня придумывает весьма хитроумный психологический план. Кухня в их квартире была в полуподвальном помещении, и в нее вела довольно длинная и крутая лестница. Когда Даня вернулся, мама и еще какие-то женщины были внизу. Даня появляется на верху лестницы, поднимает руку с узелком и с восклицанием: "Вот она, ваша вазочка!" – сбегает до половины лестницы, затем грохается и с остальных ступеней съезжает уже на спине... Все кидаются к нему: – Боже мой! Данечка! Не расшибся ли? Не сломал ли ногу или руку? Нет, цел, ничего не сломал. А то, что разбита вазочка, это уже пустяки. Слава Богу, что сам-то не разбился! Все это Даня рассказывал так живо, с жестами, мимикой и различными интонациями всех восклицаний, что я запомнила эту сценку, как бы сыгранную талантливым актером. Конечно, это была хитрость, но, мне кажется, совсем невинная и скорее остроумная, чем дурная. Однажды, не имея денег, он рискнул поехать электричкой без билета и говорил, что испытывал потом даже некоторое чувство удовлетворения от того, что обманул "их" хоть на один рубль! Во время войны, когда он почти постоянно испытывал чувство голода, кто-то дал ему талон на обед в столовой. Ехать туда было далеко, а обед такой мизерный, что голодный Даня, чтобы насытиться должен был съесть таких не менее пяти. И все же он сохранил от обеда булочку, чтобы отвезти ее своей маме. Но по дороге не удержался и ... съел ее! Он исповедывался нам в этом с чувством горечи и стыда... А ведь мог бы умолчать. * * * <...>Довольно скоро после нашего знакомства с Даней, он рассказал нам, что несколько лет тому назад его вызывали в ГПУ и несколько часов беседовали с ним. Разговаривавший с ним гебист держался вполне корректно, и Даня поражался: – Он знал творчество моего отца лучше, чем я сам! * * * Видимо, тот хорошо подготовился к этому разговору. Госбезопасность вызывала его на допросы неоднократно, перед политическими праздниками он регулярно подвергался задержаниям на несколько дней. Чекисты не выпускали его из поля зрения. А у Дани было так много друзей и знакомых, и он был так доверчив, что стремился поделиться своим творчеством... Стоило кому-нибудь объявить себя религиозным мистиком, поклонником Владимира Соловьева и поэзии, как Даня уже считал, что такому человеку вполне можно довериться. Да он, кажется, вообще определял людей больше по их словам, а не по их поступкам, в своей доверчивости даже не предполагая, что словами можно иной раз жонглировать и очень ловко. Мне кажется, что меня он более верно понял, чем Таню, именно потому, что я, в противоположность ей, никогда не играла никакой роли, Таня же с той же энергией, с которой добилась знакомства с ним, теперь старалась всячески покорить его, а для этого изображала себя и свое отношение к нему не таким, каким оно было в действительности (в чем он убедился впоследствии сам). Уж не помню, по какому поводу, он как-то сказал обо мне маме: "Ирина очень ранима". Этими словами он открыл мне глаза на самое себя, так как хотя я и сознавала, что страдаю от всевозможных сердечных и душевных ран сильнее, чем другие, но не находила этому определения. И вот какие оригинальные фантазии бывают у поэтов. Как-то Даня издали задумчиво посматривал на меня, а затем с несколько недоумевающей улыбкой сказал: – Мне почему-то представляется, что Ирине пошел бы лиловый парик. А тогда ведь париков вообще никто не носил, и даже не помышляли о них! (А любимым цветовым сочетанием Дани было лиловое с белым). Однажды мы показали ему во французской книжке о композиторе Ф.Листе фотографию его в молодости. Мы привыкли к его изображениям уже в старческом возрасте. А на том фото у него юно-прекрасное, тонкое, одухотворенное лицо, с чудесными глазами, исполненное почти женственной прелести и очарования. Даня воскликнул: – Если бы я встретил на улице женщину с таким лицом, то бросил бы все и пошел за ней! Разразилась война... Она застала меня в прикарпатских лесах, в 100 километрах от немецкой границы. Каким-то чудом мне удалось спастись оттуда, но я добиралась до Москвы полторы недели, не имея возможности послать телеграмму, так что мама уже не чаяла увидеть меня снова. Когда я вернулась, тотчас был извещен об этом Даня, как ближайший друг семьи. Он не был мобилизован сразу из-за своего позвоночника. Позже его все же взяли. До его прихода я уже успела сходить в баню: ведь за полторы недели я не только не раздевалась, но и не умывалась ни разу. И вот я лежу на диване, а рядом на стуле сидит Даня: – Какое блаженство – ощущение чистоты, отдыха и вы рядом! А он только улыбается мне глазами и так дружески, так ласково... Этим летом был снят для мамы маленький флигелек на краю переделкинского поселка, у самого леса. Через месяц после начала войны Даня приехал туда к нам с ночевкой, и как раз в этот день, когда стемнело, был первый налет на Москву немецких бомбардировщиков. Лучи множества прожекторов шарили по небу. Как гигантские хоругви, склонялись они то в одну, то в другую сторону, перекрещивались и сходились. А поймав лучем самолет, уже не выпускали его, передвигаясь вместе с ним. А на этот луч вперекрест ложился другой луч, и так высоко-высоко в небе летела в центре гигантской буквы X крошечная серебряная стрекоза, несущая к Москве смерть. Зрелище было феерическое! Совсем близко от нашего дома, укрытая в лесу, стала бить зенитная батарея. Но ее выстрелы не достигали цели, а осколки снарядов, падая обратно, стучали о железную крышу дома. Даня страшно беспокоился и нервничал. Его близкие, его семья там, а он не может туда ехать, так как из-за необходимости светомаскировки, с наступлением темноты поезда уже не ходили. Но вот там, где Москва, в одном месте появляется и все усиливается свет – зарево пожара! Стало быть, какой-то бомбардировщик прорвался через все ряды зенитных установок и сбросил на Москву бомбу. Данина тревога усилилась. Он пытался понять, над каким местом Москвы зарево – не там ли, где его дом... Он почти не спал и чуть свет с первым же поездом уехал в Москву. Потом ему, как и всем другим, приходилось дежурить во дворе своего дома на случай попадания туда зажигалок (бомбы воспламеняющего действия). Когда однажды он был на дежурстве и услышал свист фугасной бомбы, то кинулся к корпусу своего дома и прижался к его стене, чтобы, если бомба упадет туда, разделить участь всей семьи... Мое лесное учреждение эвакуировалось, но все же какой-то представитель его оставался в Москве, и он направил меня на новую работу. Я должна была учесть запасы дикорастущего шиповника на реке Белой (для фронта нужен был витамин С). И я уехала туда. В октябре, когда немецкая армия быстро приближалась к Москве, меня начал все более и более охватывать страх, что, если Москва будет занята, то я окажусь отрезанной, быть может, навсегда, от мамы и Дани, и ничего не смогу даже узнать об их судьбе... Но я не могла уехать, не закончив и не сдав работу. Вот когда я впервые в жизни принялась халтурить, делая работу чуть ли не бегом и определяя заросли шиповника на глазок. А немцы все ближе и ближе. И вдруг я узнаю, что они уже под Москвой, в дачных местах. Опоздала! В отчаянии пишу маме и Дане страстно-прощальные письма. Разумеется, если б я не думала, что больше никогда не увижу Даню, я не написала бы ему такого письма. Но после 17-го октября немецкое наступление остановилось, и в первых числах ноября я, хотя и с трудом, но добралась до Москвы. Какой неожиданный удар ожидал меня здесь! Таня рассказала, что она как раз была у захворавшего Дани, когда принесли мое письмо. И... он дал его ей прочитать вслух... С какой иронической насмешкой говорила она о порыве моего сердца! Но когда я увиделась с Даней, я не сказала ему, как он ранил меня этим, так как понимала, что он поступил так, не зная, как я там волновалась и что я написала там, что я в том письме прощаюсь с ним. Я поступила на работу пожарником военного времени. По сигналу тревоги должна была мчаться на чердак и на крышу – караулить зажигалки. С продуктами становилось все труднее и труднее. На хлеб, крупу и прочее карточки были введены в первые же недели после начала войны. Мы успели запасти немного сахару, но вскоре и он был нормирован. У меня после суточного дежурства было два дня свободных, и я ездила, пока еще ходили к востоку поезда, менять по деревням свои пожитки на зерно или вообще что-либо съедобное. Даня (как, впрочем, все его семейство) был человеком очень непрактичным, запасов продуктов, хоть самых малых, у них никаких не было, так же, как и вещей для обмена. И уже очень скоро он стал страдать от голода. Мы старались, как только могли, подкормить его. Уж не помню, с какого времени установилось, что он стал приходить к нам регулярно два раза в неделю к позднему обеду, когда Таня возвращалась с работы. К этим дням приберегалось что получше. Я думаю, что только эти два раза в неделю Даня вставал из-за стола насытившимся. И так же регулярно, два раза в неделю, он садился после еды на диван и читал нам очередной отрывок из того, над чем тогда работал. Сначала это были его поэмы "Янтари" и "Германцы"[32], затем, и уже до самого отъезда на фронт, – его роман. В тех же случаях, когда он хворал, Таня или я навещали его и привозили ему немного съестного. Правда, когда это делала я, мне от Тани всегда жестоко попадало: "Как ты смела!" Для нее было не так важно, чтобы Даня поел, но чтоб у него было чувство признательности только к ней одной! Центральное отопление во время войны не действовало, но не во всех районах Москвы было отключено одновременно. Однажды Даня из-за сильного холода у себя ночевал у нас в маленькой комнате. Вечером, после ужина, он удалился туда, мы закрыли дверь и старались не шуметь. Он работал тогда над поэмой "Германцы". Уж не помню, до которого часа ночи он писал и когда лег спать. Встал на несколько часов позже нас и прочитал нам написанное ночью за один присест. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 06-05-2007 18:25 |
|
Это было более восьмидесяти прекрасных строк, уже до конца обработанных и законченных. (Я думаю, что это исключительно большая продуктивность). Из всей поэмы особенно ярко запомнилось стремительное начало войны со зловещим рефреном: "К востоку, к востоку, к востоку!" "Шквал", а также "Беженцы". Не эти ли вещи как раз и были им написаны у нас? Электроэнергия тоже была не сразу жестко нормирована и поэтому, когда я получила на работе для обогрева в свое личное пользование электрокамин, то тут же оттащила его к Дане. Я хорошо помню его взгляд глубокой благодарности. Тут вошла его мама, которая уже знала, что я принесла, и они молча, но так выразительно обменялись взглядами. В этом перегляде был диалог без слов: – Вот, мама, видишь? Чувствуешь? – Да, дорогой, вижу, чувствую. А как-то она сказала о Дане: – Этот ребенок никогда не доставлял мне никаких неприятностей. (Свои дети доставляли и, кажется, порядочные). Однажды, уже во время войны, когда я шла к нему, увидела продающиеся на улице первые мимозы. И хотя в то время все тратилось лишь на то, что можно поесть, я все же не утерпела и купила для Дани веточку, всю в душистых золотистых шариках. Да и стоила эта пища для души так дешево по сравнению с пищей для тела! И как же Даня обрадовался, увидев ее! Молитвенно, по-индусски сложив ладони, воскликнул с нежностью: – Мимозочка! Еще в начале знакомства я как-то спросила его: – Любите ли вы цветы? Он воскликнул: – Да кто же их не любит[33]! Да, конечно, можно было и не спрашивать. Как бы мог такой поклонник красоты во всех ее проявлениях не любить цветов! * * * Лето 1942 года было первое при Дане, когда я оставалась в Москве. Ни времени, да и сил, для загородних прогулок не было. Кроме поездок, часто на два дня кряду, с обменными целями, надо было по многу часов выстаивать в очередях, чтобы отоварить продуктовые карточки, ездить на огород, который давала служба (и который ничего, по большей части, не давал, так как земля была негодная), и вообще, помимо обычных хозяйственных дел, делать массу других, связанных с военным временем. А зимою еще по многу часов простаивать на коленях возле трехногой железной печурки, дуя в нее и подсушивая в ней сырые осиновые дровишки, из которых капал сок, превращаясь в едкий угар, от чего разбаливалась голова. И все эти дела входили в мои обязанности. <...> Один только раз за все лето я участвовала в совместной поездке в дачные места. У Дани была определенная цель поездки: неким весьма состоятельным людям, живущим сейчас на собственной даче, предложить – не купят ли какую-нибудь добровскую золотую вещицу? А мы с Таней поехали с ним за компанию. Не доходя до дачного поселка, мы с Таней уселись в тени за придорожной канавой, а он, предварительно обувшись, пошел в этим людям уже один. Вернулся через полчаса, не столько раздосадованный неудачей своей миссии, как пораженный и впечатленный уже непривычным для нас стилем барской жизни. – Представь себе, – рассказывал Даня, – прекрасный ухоженный сад (ясно, что есть специальный садовник), цветущие в изобилии розы, посыпанные песком дорожки, и в довершение всего звуки рояля из окон большого красивого дома! Когда возвращались, стало прохладно. Я накинула на себя безрукавный плащ из серебрянки, сшитый для лесной работы, так как благодаря своей тонкости он умещался в полевой сумке; на спине из-под капюшона у него отходили сборки, образующие к подолу развевающиеся на ходу складки. Я в ту пору была очень легка на ногу, привыкла ходить быстро и, увлекшись ходьбой, ушла вперед. Заметив это, остановилась подождать остальных. Обернувшись, увидела, что Даня пристально и с какой-то мыслью в глазах смотрит мне вслед. Поравнявшись со мной, он сказал: – Вот такой плащ был у Агнессы (героиня его поэмы "Мон-Сальват"[34]). – Нет, не такой: "в серебряной робе и синем плаще". – Это была ошибка! Еще из этой поездки запомнилось, как на обратную дорогу у него не хватило папирос и он страдал от невозможности принять очередную дозу этого наркотика. Было несколько грустно от сознания, что в глубине души он предпочел бы сейчас нашему обществу хотя бы одну-единственную папиросу! С Таней же Даня чаще ездил за город. В одну из поездок они возвращались вдоль только что убранного картофельного поля, и Таня по пути собирала оставшиеся кое-где мелкие, с орех, картофелинки. На ее вопрос, почему он не собирает тоже, он ответил: – Не умею я так крохоборничать! Однако голод поджимал, продавать ему было нечего... кроме книг. В конце концов, это и пришлось ему делать. С какой болью расставался он с ними! особенно жаль ему было полное собрание сочинений Достоевского[35]. И ведь тогда книги, сравнительно с едой, стоили гроши. В другой раз они вернулись с загородной прогулки оба какие-то значительно-серьезные. Скоро выяснилось почему: они обращались друг к другу уже на ты... Должна сознаться, это меня взволновало. Сердце забилось так часто и так громко, что я испугалась, что и другим слышен этот стук. Ревность?! Как остро, как ядовито твое жало! но опять же – ведь и дети ревнуют своих родителей... Уж не помню – после этого события или еще раньше, я как-то полушутя попеняла Дане, что он держит меня, по сравнению с Таней, "на вытянутой руке". Он взглянул очень серьезно: – У вас есть Вася, а у Тани никого нет. Вот как! Он оберегал меня от слишком большого увлечения собой! Трогательный Даня! А ведь он знал, что этот Вася мне не муж и не жених, что между нами до его ареста не было даже дружбы – ничего, кроме очень кратковременного знакомства. Но он знал также, что я единственный человек, который помогает ему и переписывается с ним. И ведь тогда еще даже не возникало предположения о моей поездке на Колыму. Но это было характерно для Дани – такое чувство ответственности и бережливости по отношению к жертвам террора. А вместе с тем он, возможно, чувствовал, что я ему внутренне ближе, чем Таня, а может быть и нужнее для его творчества. Почему же не довольным, а таким горестным тоном он воскликнул тогда: – У нас с вами даже стихи похожи! * * * Война продолжалась. С продуктами становилось все хуже. Постоянное недоедание и холод сказывались особенно на стариках (дети были эвакуированы). Многие умерли за эти годы. В 1942 году умерла "мама" Дани. В 1943-м, уже после его отъезда на фронт – тетя[36]. Когда мама его слегла, он ездил иногда на рынок – купить для нее один (!) стакан клубники за двадцать или тридцать рублей. Говорил, что она не понимает положения, в противоположность всегдашнему своему характеру, стала капризной и требовательной. Коваленские отделились и стали питаться отдельно. Такие распады семьи из-за пищи случались тогда очень часто. Иногда даже муж и жена питались отдельно. За исключением двух раз в неделю, когда Даня бывал у нас, он был постоянно голоден. Да еще кузина его, как мне кажется, действовала на него паникерски. Он вообще был склонен поддаваться настроениям тех, к кому был привязан. Когда я, еще до войны, видела ее один раз, будучи у Дани, она мне определенно не понравилась. Она удивительно дисгармонировала с общим стилем семьи: ярко накрашенные, большие, выступающие губы, длинные серьги до плеч, и одно плечо (действительно беломраморное) обнажено, несмотря на зиму, – нечто вроде одалиски. За общим чаем говорила не помню о чем, но помню, что с чрезвычайным апломбом и безапелляционностью. Однажды, когда я была у Дани, видя, что единственный его костюм износился, я спросила его: – Почему не отдаст себе сшить костюм из грубошерстного отреза, который подарила ему Таня? А он с резкой горечью ответил: – А зачем? Чтобы меня в нем похоронили? Я промолчала. Но не только оттого мне стало больно, что жалко его, но еще и оттого, что огорчило его малодушие. До сих пор жалею, что не нашла тогда слов, чтобы поддержать его дух. <...> Довоенный уровень жизни, а наверное и питания, добровской семьи был выше, чем тот, к которому за годы гражданской войны и далее привыкли мы. Вот маленький штрих: как-то Даня сказал нам, что у него нет даже трех рублей, чтобы сходить в баню. Мы удивились: зачем же три рубля? Ведь билет стоит пятьдесят копеек! – Ну как же! А ведь еще стоимость простыни! Такое барство нас поразило, – мы-то всегда обходились полотенцем, взятым из дому. * * * Хотя пятилетний срок Васи оканчивался осенью 1941 года, но по случаю войны никого не отпускали до ее окончания и даже дольше. Но в 1943 году в лаборатории, где он работал последние два года, будучи еще зеком, понадобился новый заведующий. А так как он уже два года пересиживал, то его срочно освободили и назначили зав. лабораторией. <...> Я списалась с Васей, и он включил меня в список под видом своей жены (в то время удостоверение о регистрации брака не требовалось). Все длительное оформление этого списка производило Московское отделение Дальстроя, куда пришлось ездить довольно часто то за тем, то за другим. Тут уж мне и вовсе не стало времени на загородние прогулки, так как надо было удвоить энергию, чтобы набрать порядочную сумму для дальней дороги в 12 тысяч километров, а кроме того, купить кое-что для Васи. (Он просил только книги). Так что с Даней я виделась только у нас дома и изредка у него. Особенно памятен мне один приход к нему. Он уже знал, что мой отъезд – лишь вопрос времени, и был в этот раз как-то особенно сосредоточен и серьезен. Поговорили о текущих делах. Потом я осталась сидеть на его диванчике, а он сел на другом конце комнаты за свой письменный стол, ко мне в профиль, замолчал и задумался, углубившись в себя. Я молчала тоже и смотрела на него. На лице его стала проступать, сначала слабо, а затем постепенно все сильней и сильней, необычайно глубокая и возвышенная красота. Как будто великая душа его, в которую он углубился, перелилась через край и разлилась по каждой мельчайшей черточке его лица и осияла его! Наконец, весь облик его стал почти немыслимо прекрасным... Я не могла оторвать от него глаз... Казалось, я присутствую при каком-то бессловесном таинстве, и вижу не человеческое лицо, а лик архангела... Не знаю, сколько времени длилось наше обоюдное молчание. И вдруг Даня произнес очень тихо и медленно, как бы размышляя сам с собой: – Не знаю, как я буду без вас... У меня перехватило дыхание. Так он, стало быть, думал в эти минуты обо мне?! И я так много значу для него... О, дорогой мой Даня, но чем же я заслужила? Сердце мое переполнилось бесконечной благодарностью к нему. Но я не произнесла ни слова, а про себя подумала: "Милый, любимый, Даня, будешь... будешь и без меня!" Постепенно лицо его приняло обычное выражение – доверчивой и открытой дружбы, и распрощались мы с ним, как всегда. * * * Наконец Даню все же мобилизовали. Но его часть довольно долго еще стояла под Москвой, в Кубинке, и Даня снимал там крошечную комнатушку у местных жителей. Таня и я не раз навещали его там. <...> Особенно запомнились две поездки в Кубинку. Я знала, что Даня любит и всегда отмечает Рождество, и решила устроить ему елочку. 7-го января я захватила с собой несколько елочных свечей, а по пути от лесной дороги к поселку отломила большую густохвойную и душистую еловую лапищу. Укрепила ее в углу его комнаты, прикрепила к ней свечи и зажгла их. Пока они горели, мы сидели молча, смотря на эти огоньки и на таинственные густые елочные тени на стене и на потолке. Данино лицо было освещено снаружи этими свечами, а изнутри своим собственным, каким-то теплым, нежным и задумчивым светом. Когда свечи догорели, и мы вновь зажгли электричество, Даня сказал с чувством: – Большое спасибо! В этот ли раз или в другой он, уже не помню по какому поводу, заговорил о Тане. (Может быть, хотел узнать мое мнение об их взаимоотношениях?) Он сказал: – Я для нее единственный и неповторимый, – и посмотрел на меня значительно и несколько испытующе. "О, милый Даня, – подумала я, – да разве же только для нее? Вы для нас всех единственный и неповторимый. Уж ежели Есенин "цветок неповторимый" (что тоже верно), то вы-то – наинеповторимейший!" но вслух не сказала ничего (и напрасно!). Он помолчал выжидающе, а потом продолжил: – Она согласится на любую роль возле меня. Но жизнь сложилась иначе, и он довольно скоро сам убедился, что ее согласие на любую роль возле него было лишь хорошо сочиненной и хорошо сыгранной ролью. И вот последнее мое посещение Кубинки: вдруг приходит от Дани телеграмма на мое имя (от Тани ему был потом выговор: почему не на ее!). В телеграмме он сообщал, что его часть скоро отправляют дальше, и просил приехать, забрать его тяжелое отцовское пальто и еще кое-что из вещей. Я, конечно, моментально собралась и помчалась, хотя день уже клонился к вечеру. Не успела я пробыть с Даней и часу, как является Таня. Вернувшись со службы, она прочла телеграмму и помчалась вслед. Я почувствовала, что я лишняя, и засобиралась обратно. Ушла в кухню, где стояла моя обувка, и, стоя на одном колене, завязывала шнурки. В полумраке дверного проема появляется Данина фигура. – Не уезжайте, Ирина, вы обе мне одинаково дороги! – Спасибо, Даня. – И я все же уехала... Правда, там третьему и спать было не на чем и негде. Потом стали от него приходить нечастые треугольнички, с указанием, вместо адреса, только номера полевой почты, так что где именно он находится, мы и понятия не имели. Из-за болезни позвоночника он не был послан на передовую. Первое время работал в полевой канцелярии, потом рыл могилы и хоронил погибших. И, что уже не входило в его обязанности, собирал полевые цветы и клал их на могилы, а когда была возможность даже сажал их. На наш общий вопрос, что для него в той обстановке наиболее тяжелое, он ответил: "Невозможность работать" (то есть заниматься своим творчеством). И это несмотря на то, что и в физическом, и в моральном, и в бытовом отношении было много тяжелого, особенно для него, привыкшего с детства к установившемуся быту хорошей интеллигентной семьи, к отдельной комнате... Не помню уж, через сколько времени Даню отпустили на два-три праздничных дня домой[37]. Какая это была радость! Когда я вернулась к себе, Даня был уже у нас и сидел рядом с мамой на дальнем от двери диване. Едва я переступила порог, как он мгновенно сорвался с дивана, перелетел через комнату и заключил меня в объятья – на один лишь миг – и тут же вернулся на прежнее место (до тех пор мы здоровались и прощались всегда только за руку). О! Какое это было объятие! Широкое, щедрое, дружеское и ... бесплотное! Я нигде не ощутила прикосновения, а как будто ангел опахнул меня крылами... Это было в последний раз, что я видела Даню перед долгой и трагической разлукой. Опять стали приходить его треугольнички. Он писал, что никто не получает так много писем, как он. Очень многие были с ним дружны, любили и ценили его. Но, наверное, никто не писал ему так часто, как Таня. Если для личных встреч нужно было считаться с его свободным временем, то для писем не было такого ограничения, и она писала ему чуть ли не два-три раза в неделю. И, конечно, это была весьма действенная психологическая атака. Она и впрямь подействовала. Я однажды случайно увидела выражение ее лица, когда она сочиняла ему письма. Именно сочиняла – это была работа мозга с характерным для многих людей помаргиванием глаз во время напряженного умственного труда. Да, труд головы, а не сердца! Ни любви, ни нежности не выражало ее лицо. Но сочиняла она так умело, что через сколько-то времени, кажется, достигла поставленной себе цели: полного завоевания Дани. Я слышала как она с удовлетворением говорила маме, что Дане, к сожалению, приходится уничтожать письма за невозможностью где-то хранить их, но что ее какое-то, видимо, удачно сочиненное письмо, он все же был не в силах уничтожить и сохранил его. А еще через сколько-то времени маме была передана его уже и совсем многозначительная фраза: "Подумай о том, чтобы, когда я вернусь, нам устроиться вместе". И, несмотря на то, что знала же она Даню как эмоционального и увлекающегося человека, она решила, что это уже окончательная ее победа. Но фраза эта оказалась роковой для меня... С Коваленскими Таня была в натянутых отношениях. (Как-то, будучи у Дани, она критиковала его кузину. Та, дескать, разыгрывает из себя болящую, не помогает своей матери, у которой такой усталый вид, неудобная кухня с узкой и крутой лестницей. Как-то Даня болел, и в аптеку за лекарством хотела пойти его приемная мать, потому что Александра Филипповна отказалась, мотивируя свой отказ плохим самочувствием. За лекарством отправилась Таня, а вскоре Даня удивился, что Александра Филипповна с мужем отправилась на прогулку). Таня не знала, что в стене, под ковриком, находится дверь, смежная с их комнатой, и Коваленские слышали ее осуждения. И она решила после возвращения Дани "устроиться вместе" у нас. <...> * * * Дела мои с отъездом, хотя и медленно, а двигались вперед. Но я надеялась до отъезда еще хоть разок увидеть Даню, так как в начале 1944 года ему вновь обещали увольнительную на несколько дней. Но это почему-то сорвалось. Потом обещали уже весной, кажется, на майские дни, и ... опять сорвалось! Судьбе не угодно было, чтобы я повидалась с ним еще раз. За несколько дней до отъезда я вернулась домой, чтобы собрать вещи. Я уехала 11-го июня, а через три дня 14-го неожиданно приехал на несколько дней Даня. Мама передала мне в письме его дорогие для меня слова: – Как мне не хватает здесь Ирины! Далее мои с Даней довольно редкие письменные переклички проходили только через маму, так как номер его полевой почты довольно часто менялся, а до меня письма доходили очень нескоро. Кое-что я узнавала о нем из писем мамы. Но вести были неожиданные и для них роковые: все Танины планы относительно Дани в этот же его приезд внезапно рухнули! И я даже подумала, не возмездие ли это им за меня. Лишь совсем недавно я узнала, что перед тем у Дани была довольно длительная переписка с Аллой Мусатовой[38]. И, наконец, решение по возвращении соединиться с нею. Таня же, видимо, не только не поняла его фразы в письме к ней, что их взаимоотношения должны будут измениться, но даже поняла ее в диаметрально противоположном смысле. Насколько я могу судить по отрывочным фразам из маминых писем, внешне события происходили так: сразу же после моего отъезда Таня затеяла капитальный ремонт квартиры, и когда Даня внезапно приехал, в комнате был сплошной хаос и негде даже присесть. Тогда он сказал, что придет позже, и, видимо, пошел прямо к Алле. Мне трудно судить, как и в какой последовательности развивались эти драматические события. Но вот (из письма мамы), как из вспышки зарницы, эпизод из того времени. Немного убравшись, Таня идет в церковь (стало быть, Даня сказал ей, что пойдет туда?!) И что же видит? Даня и Алла ставят вместе свечи. Не знаю, подошла ли она к ним или по выражению их лиц поняла, что уже поздно?.. Неизвестно мне также и то, когда, как и в каких словах Даня сказал Тане о своем решении. Но не исключено, что он и не придавал такого значения той фразе, после которой считала его уже своим женихом. Ведь, в конце концов, и очень близкие друзья могут желать устроиться жить вместе. Кроме того, эта фраза была им написана Тане до того, как он узнал, что Алла свободна. Но, в чем он был, конечно, совершенно уверен, так это в том, что после его женитьбы на ком-либо, у него останутся с Таней самые близко-дружественные отношения. Не сама ли она уверила его, что ее чувство к нему таково, что она согласится на любую роль возле него. Но тут, раз уже бесполезно было продолжать играть роль, Таня выпрямилась во весь собственный естественный рост, и театральный плащ соскользнул с нее... Она отвергла Даню! Она отказалась от него совсем и навсегда. Отказалась от его любви, дружбы, от общения с ним! Она запретила ему приходить к ней. Она должна была быть единственной, а вторая роль – роль близкого друга – ее не устраивала. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 06-05-2007 18:31 |
|
И вот опять, как при вспышке зарницы: Даня на коленях (буквально!) просит у нее прощенья... Но Таня была непреклонна. Когда я узнала это, подумала: вот уж, поистине, только высокий может стать, прося прощения, на колени – низкий не сделает этого никогда! Конечно, он был виноват перед ней, но в основном лишь в том, что поверил в ту роль, которую она играла. Я-то всегда считала, что она Дане совершенно не подходит, хотя бы уже потому, что в ней преобладали черты скорее не женского, а мужского характера. Даня же, как, наверное, все поэты, очень ценил в женщинах именно женственность. Наверное отсюда его неравнодушие к женским косам. Если на улице или в трамвае он видел большую, красивую косу, то всегда старался увидеть и лицо. И с некоторым огорчением говорил нам, что лица у этих женщин оказываются по большей части неинтересными. Я его как-то чуть-чуть поддразнила блоковскими строчками о поэтах: "И золотом каждой прохожей косы // Пленялись со знанием дела"[39]. Но Даня не принял шутки, кажется, даже немного обиделся. Он относился к этому серьезно. Он как-то говорил: – Мне представляется почему-то, что у Ирины должны быть большие косы. А оно так и было, но только до шестнадцати лет. После брюшного тифа их пришлось остричь. <...> Когда я получила от Дани письмо, в котором он объявлял мне о своей женитьбе, я поздравила его с этим событием, но опять же, не зная адреса, через маму. А она прочла, возмутилась, что я его поздравляю, и не передала моего письма, о чем мне сама же и сообщила: – Разумеется, я не передала твое письмо. Как ты можешь! Ну, и все в таком же духе. * * * Даня познакомился с Аллой несколько раньше, чем с нами. Но когда он уезжал на фронт, она не провожала его до конца, как мы с Таней, а только до метро. Алла была художницей и женой одного из самых ближайших друзей Дани – художника Мусатова. Это тот самый художник из "Круга первого"[], который, зазвав Нержина в дальнюю комнатушку, показывает ему картину, сделанную не по заказу начальства, а для души – храм Грааля на вершине горы. Уже по одному этому можно судить, насколько он был созвучен Дане. Ему же посвящено Данино стихотворение "Концертный зал". Еще раньше Даня кое-что рассказывал нам о нем: он собирался жениться на очень красивой и очень религиозной девушке[40]. Но ее тетушки, прочившие ее в монашки, сумели расстроить этот брак, и Мусатов был в отчаянии. Однажды Даня шел по какому-то делу мимо его дома, вовсе не собираясь заходить к нему. Но вдруг какое-то непреодолимое чувство заставило его повернуть к дому и войти в квартиру друга как раз в тот момент, когда тот был уже готов покончить с собой. Дане удалось отговорить его, и он впоследствии женился на Алле. Но почему они потом расстались, и чья это была инициатива, мне неизвестно. А Даня продолжал иногда навещать маму – в Танино отсутствие, раз она не желала его видеть. И это несмотря на то, что, разумеется, каждый раз выслушивал от мамы жестокие упреки. Вот когда вполне подтвердилась крепость его сердечных привязанностей! Мама же писала мне с удовольствием о всех отрицательных отзывах об Алле тех общих знакомых, которые были на стороне Тани. На самом же деле Алла была интересной: в ее высокой тонкой фигуре и неярком лице было нечто боттичеллевское, девичье. Она была моложе Дани на восемь лет, одевалась всегда хорошо и со вкусом. И то и другое тоже существенно. <...> Но что, наверное, было наисущественнейшим для Даниной громадной любви к ней и безусловной веры в нее, это то, что она, будучи от природы неглупа и достаточно тонка, умела применяться к вкусам и взглядам того, кому хотела нравиться, говорить созвучно с ним, созидать необычайную духовную близость и беспредельную преданность делу его жизни – его творчеству. * * * В 1947 году в результате нервной обстановки на работе у меня резко обострилось заболевание щитовидной железы. Мне дали вторую группу инвалидности и справку, что я нуждаюсь в выезде на "материк". А для того, чтобы отпустили с работы мужа, дали еще справку, что я нуждаюсь в сопровождающем. Таким образом, в июле 1947 года мы вернулись в Москву. Как ждала я встречи с Даней! Уже несколько месяцев не было о нем вестей. Узнать, как он живет, что нового пишет, вновь окунуться в его атмосферу духовности и поэзии. Но какое страшное известие, какой удар ожидал меня в Москве: еще в апреле Даня арестован! Не свою ли судьбу он предвидел среди бесчисленного множества других судеб, когда еще в 1935 году писал: Ты осужден... Молись! Ночь бесконечна. Рок Тебя не первого привел в сырой острог. Дверь замурована. Но под покровом тьмы Нащупай лестницу. Не в мир, но вглубь тюрьмы. Сквозь толщу влажных плит, чрез крепостной редут На берег ветряный ступени приведут. Там волны вольные! Отчаль же! Правь! Спеши! И кто найдет тебя в морях твоей души?!..[41] (Записано мною по памяти). Все члены его семьи – также арестованы... В день его ареста (в дороге, когда он поехал в командировку) Таню вызывали на пятичасовой допрос, отобрав у нее предварительно все Данины произведения. Единственное, что в то время долетело о нем через Таню, – это его слова, сказанные им следователю: – У меня с вами нет ни единой точки соприкосновения. Итак, он решил поднять забрало, обнажить свое "человеческое лицо". Сколько же еще новых страданий претерпит он за это... Потом Таню отпустили, а через месяц после нашего приезда, т.е. в августе 1947 года, арестовали и ее. "Судили" ее по одному делу с Д.Л. Приговорили ее к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. После смерти Сталина, в 1955 году[42] она была выпущена и реабилитирована. Когда ее увезли, был, как положено, обыск до утра, забрали все Данины письма, адресованные ко мне на Колыму, и несколько его фото, которые у меня были. Меня спросили: – Кто это? – Андреев, – я понимала, что врать бесполезно. Исчезла также самая его хорошая фотография, которую он когда-то подарил Тане. Такой я больше ни у кого не видела. Он снят в три четверти и у него там наиболее интересное, красивое и значительное лицо из всех его фото. Во время обыска помощник главного обыскивателя, натыкаясь на что-либо стоящее, вроде серебряных ложек, взвешивал этот предмет в руке и вопросительно взглядывал на старшего (уж очень чесались руки прикарманить)! Но тот делал чуть заметный отрицательный знак головой. Почти все Данины друзья, даже не жившие уже и Москве, были тоже арестованы. Всего по его делу было посажено несколько десятков человек. Брали их поочередно. Теперь очередь была за мной... Но если возьмут и меня, то кто позаботится о маме и кто позаботится о Васе? Мама, хотя и при месте и совсем близко живет ее двоюродная сестра, которую она подкармливала во время войны, но все же она стара и слаба. А Вася, хотя и освобожден, но не реабилитирован, в работе ему всюду отказывают. Ни жилья, ни работы, ни права прописки в Москве и во всех больших городах, ни продуктовых карточек. <...> Но что будет с Даней?! Разумеется, его уже не отпустят. У чекистов хватка мертвая, они "не ошибаются". И сколько лет ему дадут? И что будет – тюрьма или лагерь? А у него здоровье хрупкое, к физической работе он не привык. Он не выдержит, он погибнет... И что будет с его творчеством? У всех арестованных его произведения были отобраны, а более далекие знакомые, не арестованные, в панике сами уничтожили все, что у них было. Так Е.Проферанцева уничтожила переписанные мною две его поэмы "Песнь о Монсальвате" и "Германцы", которые, уезжая на Колыму, я оставила ей на хранение. А те около полусотни стихов, из лучших и наиболее мною любимых, что я переписывала для Колымы и теперь привезла с собою, Таня со свойственным ей деспотизмом, не спрашивая моего разрешения, взяла и увезла с собою на дачу, которую снимала под Москвой. И распорядилась она ими вдвойне глупо: решив зарыть их в землю, засунула в жестяной ржавеющий бидончик и зарыла его на хозяйском участке, так что и это пропало тоже. Итак, Данино творчество погибло. А это такая невосполнимая, горьчайшая утрата для мира поэзии! И не только для поэзии, но и для мира духовности тоже, так как творчество его было пронизано ею насквозь. Оно было как грандиозный светлый храм, уходящий куполом в небеса. И те, кто вступал в него, погружались в духовные волны прекрасного священнодейства, творимого священнослужителем Слова. И вот теперь этот прекрасный храм разрушен и живет лишь в воспоминаниях тех немногих, кто в свое время посетил его. А с угасанием их памяти и жизни и это бледное отображение перестанет существовать. Поэтому я постараюсь дать хотя бы какое-то представление о его произведениях, хотя бы те крохи, что еще помню. Роман я слышала только в чтении Дани, а со слуха запоминаешь значительно меньше, чем если читать собственными глазами. Тот экземпляр, который он мне подарил, я так и не успела почитать сама до отъезда на Колыму. Назывался роман "Странники ночи". В основном, это была история духовных исканий ряда лиц, главным образом трех братьев, на фоне нашей действительности. Один из братьев, Олег, был поэт, и потому мы решили, что этот образ автобиографичен. Но это не совсем так. Дело в том, что почти в каждого Даня вкладывал что-то свое, какую-то грань своей многогранной личности. Но, конечно же, поэтическое творчество – одна из основных граней. Другой брат, Саша, воплощал в себе Данино отношение к природе, проникнутость ею и невозможность существования без нее. В старшего брата, Адриана, Даня вложил свою глубокую мистичность, но, в основном, прототипом для него послужил Коваленский. Адриан был личностью загадочной и окруженной некоей тайной. Их двоюродный брат, Венечка – несколько комический персонаж. Тут уж мы были уверены, что ничего общего у него с Даней нет, но Даня сказал, что и в Венечке есть частица его самого, а именно: – То, что есть во мне смешного и нелепого. Вначале этот Венечка говорил "словоерсами", но мы дружно, все трое, раскритиковали это, – теперь-де это уже анахронизм, никто так уже не говорит, как во времена Достоевского. И Даня послушно убрал эти "с". Большая роль отводилась также молодому талантливому архитектору с символической фамилией Моргенштерн. Он должен был в будущем построить необычайно прекрасный Храм "Солнца Мира". Возможно, толчком для этой идеи был дореволюционный проект архитектора Витберга, который произвел на Даню громадное впечатление. Храм Витберга должен был строиться на Воробьевых горах по какому-то грандиозному и необычайному плану и называться "Храм Тела, Души и Духа". И все же, в каком-то смысле, центральной фигурой романа был некий Глинский, хотя в том варианте начала романа, который мы слышали, о нем говорится немного. Дело в том, что этот Глинский был создателем и центром религиозно-мистического братства, по нашим временам, разумеется, тайного. В это братство входили почти все основные действующие лица романа, за исключением Адриана, который, видимо, шел каким-то своим, личным путем. Женских образов было два основных (по странному совпадению их звали Ирина и Таня, но потом их имена были изменены). Ирина – для меня лицо неясное – была невестой Олега и должна была вступить в духовный брак, который, впрочем, так и не состоялся. Таня проще Ирины, она близка к природе и это делает ее созвучной Саше. По моему мнению, женские образы у Дани менее удачны, чем мужские. Да и вообще все главные герои – это не только живые люди со своими черточками характера, но, в основном, носители идей и духовных устремлении. Отдельные места романа запомнились очень ярко, несмотря на то, что были услышаны только один раз и более 35 лет тому назад. ... В комнате у Ирины висит хорошая репродукция Врубелевского поверженного Демона. Дальше описание этой картины. Это прекраснейшее стихотворение в прозе, сверкающее такой мощной, возвышенной поэзией, такими великолепными и яркими красками слова, что, наверное, сам подлинник Врубеля не сверкал так ярко. Дословно помню только несколько слов: – "И непримиримое – "НЕТ"!" (о выражении глаз Демона). И как я ни люблю Врубеля с его на многих картинах не то расцветающими камнями, не то окаменевающими цветами, все же Данина словесная копия произвела на меня еще большее впечатление, чем сам оригинал. ...Саша ночует один в лесу, над ним звездный купол неба, а вокруг деревья. И на него нисходит не поддающееся моему перу состояние духовного экстаза, невыразимо блаженное чувство растворения в природе, слияния с нею. Все это выражено у Дани с такой неповторимой поэзией и силой, с такой напряженностью и величием духа, каких я никогда ни в какой литературе не встречала. (Несколько аналогично то место, где Алеша Карамазов в состоянии экстаза "пал на землю...". Но оно не так ярко и поэтично, как у Дани). ...Олег у себя в комнате. По оставшейся для меня непонятной или забытой причине он собирается повеситься... Уже все готово, но в последний момент он бросает взгляд на рукописи своих стихов, он сжигает один за другим все листы, пока от всего его творчества остается лишь кучка пепла, над которой он склонился... И тут с ним происходит некий катарсис, и через некоторое время он встает с колен уже другим человеком – готовым для новой жизни. ...Глинский у себя в комнате молится перед сном. Не о себе, не о своих близких, но о России. Это довольно длинная молитва, слова проникновенные и возвышенные. Пауза. Земной поклон. И опять та же мольба о ней, о России. Слова становятся все вдохновеннее и произносятся со все большим чувством. И опять земной поклон, и опять же мольба. И, как рефрен, каждый раз повторяется: – Паче же всего не оставь ее Духом! (Я думаю, что такую молитву следовало бы читать ежедневно во всех еще уцелевших храмах на Руси). ...Глинский уже арестован и находится в общей тюремной камере. Он (индуист), православный священник и мусульманин-мулла несут поочередно непрерывную вахту молитвы. Когда один утомляется, вступает второй, затем третий, чтобы молитва, подобно неугасимой свече, не затухая ни на минуту, горела пламенем веры днем и ночью. Вот это было характерно для Дани – стремление к братскому единению, общности всех религий, возвышенная широта его религиозных взглядов. ...И совсем в другом роде: поэтический дифирамб... творогу. И чуть ли не на полстраницы. Он и первооснова всякой пищи земной, и чистейший первоисточник ее! На это я возражала, что так можно говорить скорее о молоке, ведь творог получается в результате его прокисания. Но Даня остался верен своему любимому творогу. После возвращения из армии Даня не только продолжал роман, но и переделал то его начало, которое нам читалось. До окончания оставалась одна глава, а объем его, по словам Дани, был равен "Братьям Карамазовым". Пропажа этой вещи была для Дани наиболее тяжела. Он дорожил ею больше, чем всем остальным. Может быть потому, что это была его последняя и еще не совсем законченная работа, на которую он положил много времени и труда, тогда как стихотворные произведения давались ему чрезвычайно легко, и многие из них он впоследствии восстановил по памяти. Роман же был абсолютно невосстановим... Мне думается, что пропажа этого романа "Странники ночи" – наиболее горестная утрата в области литературы, поэзии и духа из всего того множества, что после 1917 года было уничтожено в нашей стране. Он был, видимо, последней, но самой яркой вспышкой литературы и поэзии романтизма и символизма. Но кроме того, этот роман был выпавшим ныне звеном в цепи русской прозы. В "Странниках ночи" в лице членов мистического братства продолжаются так свойственные лучшим представителям русской нации духовные искания. Теперь уже тайно, не на поверхности, а в глубине. Как отдельные ручейки, текут они, невидимы и неслышны, под землей, не соприкасаясь друг с другом, не зная друг друга, не зная – "сколько нас?", не зная – "где другие?". А если и пробьются порой на поверхность, то лишь ничтожная малая часть жаждущих успевает утолить духовную жажду раньше, чем завален будет родник многотонной глыбой многолетней тюрьмы и лагеря... Из поэм самая длинная и наиболее мною любимая – это поэма "Песнь о Монсальвате". Переписанная мною, она занимала общую тетрадь. Король Джероним со своей женой Агнессой и рыцарем Роже отправляются на поиски святыни – чаши Грааля. Роже тайно любит Агнессу, примерно так, как Блоковский Бертран верно и безнадежно любит свою даму Изольду. Даня сказал как-то, что ему жалко Роже. Их путь в горы неясен, долог и опасен. Чем дальше, тем все более странные происходят явления. Поэма не окончена, так как доходит до такого предела мистицизма, что дальше писать ее оказалось невозможным даже для Дани. А настроение чтение этой поэмы создавало такое, как будто прослушал возвышенно-прекрасную, таинственную литургию в каком-то заоблачном храме. Поэма "Германцы". Написана она была в самом начале войны, когда еще не доходили слухи о фашистских зверствах. А о Гитлере Даня знал только, что он мистик, вегетерьянец, что проводит какие-то мистические сеансы, на которых беседует с Гением немецкой расы. Все эти, как нам теперь известно, поверхностные черты, заинтриговали его. В поэме сперва перечислялось все прекрасное, созданное этой многогранной нацией: Байрейтские музыкальные празднества, торжественно-радостное, как нигде в другой стране, празднование Рождества: "Если от Вислы до Рейна праздник серебряный шел"; образы Лоэнгрина и Маргариты... "где по замковым рвам розовеет колючий шиповник, где жила Маргарита и с лебедем плыл Лоэнгрин"[43]. Затем идет начало войны, с постоянным жутким рефреном:"К востоку, к востоку, к востоку!"[44] По форме она была шедевром. Она состояла из отдельных частей, занимающих каждая около страницы. И в каждой части размер и ритм стиха менялся в соответствии с содержанием. Это создавало такое разнообразие звучания, такую каждый раз новую свежесть восприятия! Из этой поэмы были впоследствии восстановлены Даней три отрывка: "Шквал", "Беженцы" (поэма подзаголовков не имела), третий отрывок – это эвакуация "мощей" Ленина. Здесь чувствуется жутковато-гротескный мистический подтекст. И четвертый отрывок – кульминационный момент войны – немцы уже под Москвой... "Враг здесь, уж сполохом фронта трепещет окрестная мгла...", "Свершается в небе и в прахе живой апокалипсис века"[45]. * * * Потянулись годы наших с Васей изгойных скитаний и мытарств. Тяжкий, неустроенный быт, отказы в прописке, бесконечные подневольные переезды. Потом его вторичный арест "по второму кругу" (то есть по прежнему делу). Снова тюрьма, следствие и наконец "вечная" ссылка в Северный Казахстан. О маминой смерти в конце 1948 года я узнала, когда мы находились в Восточном Казахстане. К этому времени Данин процесс еще не окончился (он длился полтора года). В своем последнем кратком письме мама написала мне: "Прости за многое". Видимо, в преддверии смерти прозревают какие-то запасные глаза души. И все эти годы я решительно ничего не знала о Дане. Не знала даже, жив ли он еще... Когда в 1955 году я наконец смогла поехать в Москву (пока временно), то первым делом через адресный стол нашла одну из его бывших соучениц (ту самую Галину Сергеевну Русакову, его первую поэтическую любовь). Она, конечно, не узнала меня и, чтобы она не испугалась вопроса о Дане, я напомнила ей, что она как-то заходила к нам на квартиру, чтобы передать рукавички в посылку Дане, которую мы отправляли ему в армию. И все равно при упоминании Даниного имени буквально паника выразилась на ее лице! Как будто я принесла с собой чумные бациллы. Даже через два с половиной года после смерти Сталина судебные процессы вызывали такой панический ужас, что даже как-то больно, жалко и стыдно было на это смотреть... Наконец она взяла себя в руки, сообразила, кто я, что бояться меня нечего, и рассказала кое-что о процессе и о Дане: Даня жив, находится во Владимирской тюрьме. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 06-05-2007 18:34 |
|
Состоятельные родители Аллы посылают не только посылки ей, но иногда и ему. Даня и ближайшие члены его семьи (Алла, Коваленские и сын Добровых), а также Сергей Мусатов, получили по 25 лет, остальные по 10. Все, кроме Дани, находятся в лагерях. Когда в 1956 году мы вернулись в Москву насовсем, я взяла на себя посылки Дане. Делалось это так: я покупала продукты, укладывала их в ящик и отвозила к Тане Морозовой[46], так как та, будучи на инвалидности, не работала и могла поехать за город в рабочие дни. Из Москвы продуктовые посылки не принимались. Эта Таня Морозова была по отношению к Дане "старожилом": она не только училась в одной школе с ним, но, живя в детстве очень близко, играла с Даней с четырехлетнего возраста. Даня был старше ее на один день, чем и гордился. Если в играх происходил из-за чего-нибудь спор, он важно поднимал палец вверх и говорил строгим голосом: "Слушаться старших!" В 1956 году, когда я с ней познакомилась, у нее был паркинсонизм, как следствие энцефалита, а болезнь действует на мозг, так что она производила впечатление умственно отсталой, и вместе с тем по-детски бесхитростной и светлой. Конечно, были и хлопоты о пересмотре дела, и об освобождении, но этим занимались исключительно Алла и ее родители. И вот с середины 1956 года начали возвращаться посаженные по Даниному делу. Таня вернулась в Москву еще раньше меня. Она восстановила против меня наших общих знакомых, рассказывая всем, что я "бросила" маму. Тем же, которые знали, что, останься я в Москве, я была бы тоже арестована, – отвечала: "Лучше было быть арестованной, чем поступить, как она". Могла ли она не понимать, что для мамы это было бы хуже во всех смыслах?! Но в этой фразе весь Танин характер: геройство напоказ и отсутствие настоящей любви, заботы по отношению к маме. Но все же несколько человек за эти годы погибло, в том числе дочь и сын Добровых. Коваленский вернулся совершенно больным. Он говорил: "Мы все не выдержали испытания..." Одного Даню не отпустили, только пересмотрели ему срок и 25 лет заменили на 10 (ему инкриминировалось намерение убить Сталина). В заявлении с просьбой о пересмотре дела он написал: "Я никого не убивал и не собирался убивать, но пока в Советском Союзе не будет свободы совести, свободы слова и свободы печати, прошу не считать меня полностью советским человеком". Это заявление, конечно, осложнило и задержало его освобождение. Ему пришлось отсидеть свои десять лет день в день до 23 апреля 1957 года. Но и после этого его не отпустили на все четыре стороны, а увезли из Владимирской тюрьмы в Лубянскую. Даня и там наговорил лишнего: высказал полностью свое мнение о Сталине и сталинизме. И вот я наконец узнаю, что Даня уже на свободе и находится временно в квартире родителей Аллы. С каким замиранием сердца я подходила к двери! Я не сразу решилась нажать кнопку звонка. Неужели я вновь увижу его, и какой он теперь?.. И вот открывается дверь, в нескольких шагах я вижу его, и в то же мгновение он уже возле меня и опять такое же объятие, как тогда, когда он приезжал с фронта. Лицом он изменился сравнительно мало, только порядочно седины появилось в волосах. Внутренне-то он изменился больше, но это обнаружилось, конечно, не сразу. Да и я уже была не та. Душевное состояние было настолько тяжелое и подавленное горем новой семейной драмы, что я не могла даже так радоваться встрече с Даней, как мечтала... Несмотря на прежнюю живость движений, инфаркт Дани, случившийся около двух лет назад, все же сказывался: уже скоро ему пришлось лечь на диван, а я села возле него. Разговор не клеился. Мне бы, конечно, хотелось знать подробности следствия и тюрьмы, но я не смела спрашивать, боясь коснуться слишком болезненной раны и вызвать волнение, опасное для его теперешнего состояния. О следствии Даня не сказал ни слова... А о тюрьме лишь очень немногое: как он с помощью своих сотоварищей по камере прятал от обысков ("шмонов") свои стихи, которые он восстанавливал по памяти и вновь написанные. Иногда их находили и уничтожали. Но он восстанавливал их вновь... И так по многу раз! Как об одной из тягостей тюремной жизни, говорил о беспрестанном и мощном оре громкоговорителя, от которого все они пытались спасаться, затыкая себе уши хлебным мякишем. (Громкоговорители, как культмероприятия, были установлены лишь после смерти Сталина). Кажется, во второй мой приход Даня прочел вслух недавно вышедшие в одном из толстых журналов стихи Пастернака "Горит свеча"[47] и сказал: – Правда, гениальные стихи? В них есть магия слова! – Очень хорошие, но по мне, все же не гениальные, – не согласилась я. – Слишком уж громко стучат эти башмачки, падая на пол. А магия слова есть, но она достигается наиболее простым приемом – повтором. Это не то, что "Песня Гаэтана" или пушкинский "Пророк", где магия в словах. Даня улыбался своей, такой знакомой, хорошей улыбкой не только терпимости к иным мнениям, но как бы даже удовольствия оттого, что у каждого оно свое, и не стал возражать. А еще до войны он первый познакомил нас с Пастернаком, принеся нам книжечку его стихов. Но тогда он не понравился мне вовсе. Что за пристрастие многих поэтов последнего времени депоэтизировать поэзию, изображать даже прекрасное в некрасивом, неопрятном виде. Ради оригинальности? Неужели же они так видят? Я невольно сравнивала: у Дани "волн нерукотворный стих"[48]. У Пастернака: "прибой, как вафли, лепит волны"[49], разница большая. У Дани: "И облака кучевые, подобные душам снежных хребтов, поднявшихся к небу"[50]. Пастернаку же снежные горные вершины напоминают "смятые простыни"[51](?!) Правда, Даня говорил, что с годами Пастернак стал писать проще и лучше. Да ведь и сам Пастернак впоследствии отказывался от первого сборника своих стихов. В один из моих приходов Даня читал и свои стихи (он вообще любил читать сам). Не помню, какие именно это были стихи, но хорошо помню вновь нахлынувшее ощущение подымающихся ввысь духовных волн. Придя домой, попыталась выразить это в стихах: Опять, как в былые годы, Вступаю я в храм искусства, Единственный, где служенье Творится по вере моей, Благоговейно у входа Помедлю я на мгновенье, А в сердце ширится чувство Возврата к отчизне своей. О, как же я долго блуждала В безводных пустынях Духа, Томимая жаждой Слова, Дающего жизнь, как вода, Но Воскресенье настало, И в храм прихожу я снова, И вот уж коснулись слуха Летящие к небу слова. Священнослужитель Слову Свершает здесь литургию, И пусть опечатаны входы И храм освещенный пуст, Склоняясь пред Высшим долу, Благословляет он воды, Творит причастья благие Для будущих жаждущих уст. Этих стихов я Дане не прочла, не успела[52]. Краткие встречи были заполнены текущими делами. А жаль... Возможно, он был бы рад подобному восприятию его творчества. У Дани потянулись месяцы неустроенного и безденежного быта, с жильем то у родителей Аллы, то на частной квартире, что стоило очень дорого, и где больной Даня не был у себя дома. Друзья его (и я в том числе), сами совсем не обеспеченные, собирали для него небольшие суммы. Встречалась я с Даней нечасто и на короткий срок, так как работала до изнеможения (и служба, и все домашнее хозяйство в нервных условиях коммунальной квартиры), и Даня, несмотря на болезнь, много работал, стараясь сделать задуманное и доделать начатое. Во время кратких приходов разговор был в основном о текущих, насущных проблемах: о его здоровье, о квартире и прочем. И все же вначале он был настолько крепок, что посетил по очереди всех своих друзей. Хотел и к нам приехать, но... мне пришлось отвергнуть это, так как наша хозяйка, у которой мы снимали 11-метровую комнатушку, устроила мне скандал. Даже когда я, до его возвращения, говорила по телефону о посылке ему (не называя даже его имени), она шипела у меня за спиною: – Кончайте, мне нужен срочно телефон. А о нем говорила с презрительным возмущением: – Ведь он был против советской власти! Вообще это была грубая и отвратная баба, несмотря на то, что хорошо пела и приходилась племянницей художнику В.А.Васнецову. Так что ради того, чтобы познакомить Даню с Васей, была устроена краткая встреча в каком-то парке, куда он смог приехать тогда еще без сопровождающего. Но очень скоро здоровье его стало быстро ухудшаться. Действовали бездомность и безденежье, в особенности бытовые заботы и неустройства. Поехали куда-то на метро. Людям со здоровым сердцем кажется, что вентиляция там отличная. А у него сделался сердечный приступ. Его занесли в диспетчерскую дежурку, положили там, вызвали скорую помощь. После этого ему пришлось ездить только на такси. Как-то надо было ему куда-то ехать, когда я была у них. Часть пути мне было просто по дороге, и я села вместе с ними. Проезжали по Красной площади, и Даня неотрывно смотрел на столь любимый им и запечатленный в стихах храм Василия Блаженного. Смотрел, смотрел и не мог насмотреться... Когда машина стала заворачивать, то и Даня стал поворачивать шею, а потом и весь корпус, и как будто что-то померкло в его лице... Возможно, он прощался с ним. И все же за два года на свободе, несмотря на болезнь, Даня успел очень много. И закончить, и написать многое (и сам еще на машинке печатал!), и даже поездить. Конечно, такой образ жизни и сократил ее намного... И тем более, что условия всяких поездок в нашей стране, как известно, требуют большой выносливости и здоровья. В первое же лето 1957 года врач предписал Дане выехать за город до конца лета. Один из многих его друзей предложил ему на своей даче в Перловке[53] хорошую отдельную комнату с большой верандой и, конечно, безвозмездно. Я взяла на себя "возню с керосинками", перенесла на это время свой отпуск, и нашла в Перловке такую комнатушку, чтобы она была близко от их дачи, и Дане нетрудно было бы приходить ко мне обедать. Когда я сказала, что уже сняла, Даня явно обрадовался, – ему-то хотелось вон из Москвы. Я мечтала, как буду кормить Даню вкусно и сытно, но... увы, это не всегда мне удавалось. Я на работе получала сущие гроши, Вася тоже немного, так как к тому времени он еще не защитил докторской диссертации, а московскую комнату мы снимали частным образом, то есть по дорогой цене. Так что поехать на рынок и закупить там хороших продуктов я не могла. Приходилось ездить по многим магазинам, стоять в очередях. К определенному часу они приходили ко мне обедать, после чего Алла уходила к себе[54], а мы с Даней отправлялись в ближайший лесок (Даня, конечно, босиком, несмотря на начавшиеся сентябрьские заморозки), расстилали одеяло, усаживались и Даня читал мне свою поэму "У Демонов возмездия". Это описание того, что после смерти происходит в других мирах с душой чекиста. Должна сказать, что вещь эта до меня не дошла. Причина отчасти в том, что ко времени чтения я была уже в изнеможении от усталости, так как вместо отпускного отдыха у меня получилась двойная нагрузка: ведь продукты приходилось покупать в Москве, да еще готовить на два дома. Ехать в Перловку было очень далеко – с несколькими пересадками автобусами и метро. Кроме того, все эти потусторонние чудовища (как у Босха или Гойи) заставили меня, увы, впервые вспомнить слова Толстого о Леониде Андрееве: "Он пугает, а мне не страшно". И тем более, что в посюстороннем мире много есть всего, что кажется мне еще страшнее. Эти "миры возмездия" – довольно длинная вещь, и читал он ее, хотя и понемногу, но большую часть этого месяца. Когда он кончил, и мы возвращались из леса, он сказал печально: – Вам не понравилось... Хотя я и не критиковала ничего, но и не хвалила, он почувствовал. На его слова я промолчала, сказала только, что ему надо бы написать свои впечатления о годах тюрьмы. – Об этом другие напишут. – Напишут, но без силы вашего таланта. Он промолчал. Но в один из последних дней в Перловке сказал мне с улыбкой: – А я, кажется, все же исполню ваше пожелание. Я порадовалась этому, но... он не успел. До этого месяца мы встречались лишь урывками, здесь же, почти ежедневно, возвращаясь из лесу, можно было немного поговорить. И здесь я почувствовала Данино внутреннее изменение. Прежде, бывало, если в чем-то не соглашаешься с ним, то он или улыбнется своей доброй улыбкой или же приводит еще какие-то аргументы в подтверждение своей мысли. Теперь же при каком-нибудь возражении лицо его делалось замкнутым и непроницаемым, и он умолкал. Особенно запомнилось мне такое наше несогласие в весьма существенном для меня вопросе. Даня сказал как-то: – Страдания – это пища бесов. – Но если страдание за кого-то? Страдание из-за любви? Из-за сострадания? – Даня молчит. – Как же такое страдание может быть пищей бесов? – Молчит... До сих пор сожалею, что не сообразила привести такой пример: так что же, по-вашему, страдания Христа были тоже пищей для бесов? Интересно, что бы он ответил на это? [55] И еще один разговор, огорчивший меня нашим взаимным непониманием (чего раньше никогда не было). Помимо "У демонов Возмездия" Даня прочитал мне в Перловке поэму "Гибель Грозного". Я сказала, что образ Грозного получился у него односторонним, слишком смягченным. Очень подчеркнута его любовь к "Анастасьюшке" и совершенно умалчивается, что он потом уморил нескольких своих жен. Подчеркнуто, как в ранней юности бояре обижали его, а не говорится о той лютой жестокости, с которой он потом расправлялся с ними. – Да, – подтвердил Даня, – он приказывал зашить бояр в медвежьи шкуры и травить их сворой собак... А сам, упершись руками в бока, хохотал, глядя на эту кровавую сцену. – Но ведь этого-то вы не написали! – Что вы, как можно писать такие вещи! – Вот те на! Почему рассказывать можно, а писать нельзя? Мне это совершенно непонятно. Но опять я не получила на это ответа. Он промолчал. Еще меня кольнула эта поэма о Грозном тем, что она совпала со временем, когда в официальной печати реабилитировался облик этого царя. Мне потом говорили: "это просто случайное совпадение". Но у Дани не должно было быть таких совпадений. Недавно мне довелось перечитать эту поэму, и она мне понравилась значительно больше. Возможно, он переделывал ее[56]. И еще он стал более раздражителен (что, впрочем, и неудивительно после таких испытаний). Возвращаемся мы как-то из леса – вдалеке показывается какая-то пожилая пара. – И чего они тут ходят, и что им тут надо? – ворчит Даня. – Но, Даня, ведь они тоже любят лес. И, может быть, думают, зачем это мы здесь ходим? Но какой же он все-таки был рыцарь: когда мы шли в лес, он всегда нес рюкзак с одеялом. Зная, что ему запрещено носить любые, даже самые малые тяжести, я старалась отобрать у него этот рюкзак, но он так ни разу его мне и не отдал, хотя я и уверяла его, что мне эта тяжесть ничего не стоит. – Нет, нет, что вы? Да мне даже стыдно было бы перед встречными! И еще вспоминается, как проходя лесом, он с нежностью обласкал взглядом маленькие, уже золотисто-желтые, но еще пушистые лиственнички. Но почему же все-таки Даня молчал и не хотел отвечать на возражения? Боюсь, причина заключалась в том, что он считал себя обладателем непреложной истины. Я думаю, что это остановка в духовном развитии, быть может, даже конец его... Но как же это могло случиться? Со страхом приступаю я к попытке объяснить это... Со страхом, потому что я слишком мало знаю, потому что из "Розы Мира", где говорится о вещах необычайных, часто почти недоступных трехмерному восприятию, я читала лишь несколько маленьких отрывков. По немногим фразам Дани, сказанным им после возвращения из тюрьмы, я поняла так, что за неимением каких-либо впечатлений извне, он ушел внутрь себя. Когда в общей камере тюрьмы все засыпали, он погружался примерно в то состояние, в которое впадают индийские йоги путем чрезвычайного сосредоточения (что-то близкое к "самадхи"). Даня называл это состояние "трансфизическими странствиями, которые совершались во время сна отсюда, из Энрофа России". Он пишет: "... смутные образы дополнялись другим неоценимым источником познания – трансфизическими встречами и беседами". Во время этих бесед он слышал голоса, которым верил беспрекословно, и сказанное ими принимал за абсолютную истину. В частности, ему был назван ряд имен великих русских талантов и деятелей, и кто из них какого пути удостоился в посмертии. Я прочла этот маленький отрывок еще при жизни Дани. И я была больно поражена: я почувствовала в перечне имен Данины личные симпатии и пристрастия. Я подумала, что, стало быть, голоса эти были не "свыше", а скорее голоса его собственного подсознания [57]. Что касается восстановленных стихов, то сравнивая с ними то немногое, что я запомнила из прежнего, я обнаружила, что по большей части теперь некоторые стихи стали хуже. Это и неудивительно: ведь восстанавливая стихотворение через много лет можно легко утерять какую-нибудь изюминку, которая когда-то написалась под непосредственным впечатлением. Вот несколько примеров: Было написано (по памяти): ... На исходе тягостного жара Видел я, как чащу осветя, Речка безымянная бежала И резвилась, как дитя. После восстановления: ... На исходе тягостного жара Вековую чащу осветя, Безымянка звонкая бежала И резвилась с солнцем, как дитя.[58] "Безымянка" хуже, чем "речка безымянная", так как по началу стихотворения видно, что суть как раз в том, что речки эти так малы и их так много, что у них нет даже названия. А когда говорят "безымянка", то этим уже дается ей имя. Что же касается трех "с" в последней строке, то это такой ляпсус, которого раньше Даня никак бы не допустил. Он как раз очень обращал внимание на такие вещи. В стихотворении "Порхают ли птицы, играют ли дети" теперь две последние строки: Вся жизнь – это танец творящего Бога, А мир – золотая одежда его. Раньше было: Вся жизнь – это танец творящего Бога, А мир – это пыль от сандалий его. Мне кажется, что первоначальный вариант, хотя и менее звучный и эффектный, лучше по смыслу [59], тем более, что за две строфы до этого были перекликающиеся строки: Как будто мельканье крылатых сандалий, Взбегающих по золоченной тропе.[60] И все стихотворение в целом – в индуистском ключе. А фигурка танцующего Шивы – почти без одежд. Из поэмы "Германцы" в отрывке "Беженцы" было написано: ...В уцелевших храмах за вечернями Люди ниц рыдают на полу. После восстановления: ...Плачут ниц старушки на полу. И вариант: ...Плачут ниц на стареньком полу. И тот, и другой вариант и по звучанию, и, главное, по смыслу несравненно слабее. Как будто только старушки плакали, а уж на то, какой пол в церкви, – неужели кто-нибудь обращал внимание?! Ведь рыдали-то: О погибших в битвах за Восток, Об ушедших в дальние снега, И о том, что родина – острог Отомкнется лишь рукой врага. Это – как было. После восстановления стало: Отмыкается рукой врага. Это неверно, так как она не отомкнулась, а была лишь надежда на то, что отомкнется. И вариант: Об ушедших в глубину снегов И о том, что родину – острог Враг вторично запер на засов. "Запер на засов" – хуже и по звучанию и по смыслу. Из того же отрывка. Как было: ...Киев пал. Все ближе знамя Одина. На восток спасаться, на восток: Там тюрьма, но в тюрьмах дремлет родина, Мать-Судьба всех жизней, всех дорог. После восстановления: Обойми, рыдающая родина Всех, кто брошен, ранен, изнемог! Первый вариант, хотя и менее эффектный, больше выражает настроение того времени[61]. Из той же поэмы отрывок "Шквал". Были строки: ...Он с Гением расы воочью Беседует царственной ночью. Теперь: Беседует бешеной ночью[62]. Первоначальный вариант кажется мне сильней и по звучанию, и по смыслу [63]. Зато в некоторых стихах отдельные слова изменились к лучшему. Правда, я не знаю, появились ли они после возвращения, или Даня переделывал кое-что до ареста. |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>> |
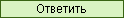
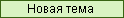
|
| Театр и прочие виды искусства / Общий / Пример для подражания. |