
 |
| [ На главную ] -- [ Список участников ] -- [ Зарегистрироваться ] |
| On-line: |
| Театр и прочие виды искусства -продолжение / Курим трубку, пьём чай / Что есть юмор? |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 ...... 7 8 9 ...... 14 15 16 17 Next>> |
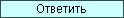
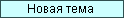
|
| Автор | Сообщение |
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 14-11-2007 14:06 |
|
Андрей Красильников Толкование Ерофеева Несмотря на то, что все им написанное уместилось в одном томе и совершенно не вмещается в рамки какой бы то ни было литературной традиции, Венедикт Васильевич Ерофеев (1938—1990), похоже, признан уже классиком, и последние десять лет о нем пишут довольно часто. Точнее сказать, о поэме “Москва—Петушки”. Исследуются стиль и язык ее, аллюзии раскрываются, параллели проводятся вдоль и поперек... Другие его сочинения как бы остались в тени знаменитой поэмы и кажутся лишь приложениями к ней. Что ж, по своим художественным достоинствам “Москва—Петушки” действительно выше их всех, однако и все они не менее важны для понимания методов работы, психологии творчества и самой личности писателя. Возможно, что и более важны в силу как раз своей слабости — огрубления стиля и обнажения приемов. Вот только одно наблюдение, не имеющее, впрочем, прямого отношения к теме настоящей работы. Первая цитата — из пьесы “Вальпургиева ночь или Шаги командора”: “А вон там, повыше, с самого верху — попугай, родом, говорят, из Хиндустана. ... А может быть, и в самом деле из Хиндустана, наверняка оттуда, потому что молчит целые сутки. Молчит, молчит. Но как только пробьет шесть тридцать утра, — вот ты увидишь, — он начинает, не гнусаво, не металлично, а как-то еще в тыщу раз попугаевее: "Владимир Сергеич!... Влади-мир Сергеич! На- работу — на работу — на работу — на ... — на ... — на ... — на ...”” И вторая цитата: “Всю ночь во дворе выла голубая машина с какой-то штукой вроде стрелы, и бегали собаки. Одна лаяла тонким голосом: "Надо работать, надо работать", а вторая ей в ответ: "Не надо"”. Это пишет “больной Г.А., 30 лет. Из делириозного состояния вышел 26 дней назад. В настоящее время чувствует себя хорошо”. Попробуем продолжить сравнение: “Ночью опять появились голоса. Они кричали: "Вот идет Казазуля, он убил свою бабушку". Я быстро стал переодеваться, чтобы выбежать на улицу. Внезапно, от телевизора стали исходить звуки, переходящие в слова. Шел процесс надо мной и еще одним. Судья выяснял, кто истинный Толя”. Вот как выглядит подобный процесс выяснения в пьесе “Диссиденты или Фанни Каплан”: “ — Так отчего же они Лжедмитрии? — 1-й вот почему. Потому что родился в Угличе и звать его Григорий (т.е. в детстве наречен Григорием). А 2-й родился на том самом месте, где некогда была та самая келья Чудова монастыря. И звать его на самом деле Митя. Так что не совсем понятно, почему он Лжедмитрии? — Чего уж тут непонятного, если настоящий Лжедмитрии, т.е. Григорий, родился в Угличе?” В той же пьесе хозяин пункта приема посуды говорит: “— Я хотел у своего заведения установить водометы и изваяния. Вот какие бюсты я хотел установить: Александра Колчака, мадам Баттерфляй...” В воспоминаниях Г.А. тоже встречается нечто подобное: “... там где было метро "Динамо", стоит какое-то светлое здание все стеклянное, а внутри гимнасты парят. Стоят статуи и грудными голосами восхваляют царька Толичку и приглашают посмотреть 25 серий. Роботы работают, сами по себе движутся облицовочные плиты, сами себя закрепляют, в общем ночная рабочая суета”. Так же это напоминает и прожекты Сережи Клейнмихеля для татар и космонавтов в “Вальпургиевой ночи”. И еще одна цитата: “Сажусь в поезд. Узнают. Одни ругают Толичку (не меня), другие защищают. Вдруг в вагон врываются столбы цемента. Пылища, а люди сидят, привыкли. "Что это?" — спрашиваю. "А вот ты выйди и разберись"”. Это уже сам Веничка, которого одного из всех пассажиров беспокоит тьма за окном электрички... У Владимира Набокова в эссе о Пушкине описан странный случай сумасшествия. Больной представляет себя близким другом великих людей прошлого, но его рассказы о них — всего лишь расхожие сплетни. “Сколько бы мог Карлейль извлечь из такого безумия!” — восклицает Набоков. А мы можем предположить, что талантливый писатель способен извлечь много пользы для себя из алкогольного делирия. Но все это так, к слову... А теперь — к делу. II “Веня меньше всего был для меня писателем <...> Веня сам был значительнее своих сочинений”, — пишет в воспоминаниях Ольга Седакова. И почти у всех мемуаристов тоже встречается нечто подобное. Закономерно возникает вопрос: “Кто же был Ерофеев и в чем его значительность?” И так как однозначного ответа нет, то “вот этот избыток сочинителя над сочинениями и образует зачаток мифа”, как пишет в своей статье “После карнавала” Михаил Эпштейн, который, опираясь все на те же мемуарные свидетельства, пробует “вникнуть в слагаемые Вениного мифа”, и сам отчасти создает его, Мне бы хотелось отчасти его разрушить. Михаил Эпштейн считает, что существующий в массовом сознании миф о Ерофееве “совпадает общими очертаниями с "есенинским", "высоцким", и даже совсем неудавшимся "рубцовским" мифом”. Все эти мифы возникли, чтобы разрешить характерное для советской эпохи противоречие между ярким талантом художника и его загубленной жизнью. Загубленной, впрочем, скорее самостоятельно, чем при помощи государства, ибо корни всего этого Михаил Эпштейн видит в юродстве. Что касается особенностей ерофеевского мифа, то важнейшим его качеством, в отличие от вышеупомянутых, Эпштейн считает деликатность героя. Много и хорошо говорится о его беспричинной печали, о любви к энтропии, о нежности посреди карнавального буйства, но все сводится чуть ли не к тому, что “забубённые личности чувствовать умеют”. Вряд ли все так просто. Судя по воспоминаниям о Ерофееве, в нем самом для друзей его важнейшим качеством была религиозность. Не считая, естественно, пьянства... Но вот, уже начиная с этого самого пьянства Венедикт Ерофеев ничем не напоминает остальных наших загубленных талантов. “Не был он жертвой”, говоря словами Владимира Муравьева, и если Горе и было его страстью, то он не заливал его. Пьянство Ерофеева можно, скорее, сравнить с “героическим пьянством” митьков, и то сравнение захромает... А Эпштейн в своей статье зачем-то употребляет термины “самореализация” и “саморазрушение”, хотя Ерофеев о первом вряд ли и думал, а о другом писал: “мой путь саморастрачивания”, то есть все же писал о другом. И едва ли не о том же, что и “кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее”. И мне кажется, что весь ерофеевский миф во многом держится на общепринятом представлении об общепринятом пьянстве, как о добровольном сумасшествии, тогда как сам Ерофеев “был большим поклонником разума <...>, у него было тяготение к четким структурам, а не расплывчатым, к анализу”. Стоит вспомнить его любовь ко всяческим подсчетам, систематизации, классификации... В его коллекции способностей, отличающих человека от всей фауны значится “пить спиртные напитки”. “Выпивка была для него работой”, по словам Игоря Авдиева. Сам он считал, что “трезвость так же губительна, как физический труд и свежий воздух”. Михаил Эпштейн указывает на то, что ерофеевское пьянство есть способ борьбы с гордыней, а Ольга Седакова трактует его как средство подавления других страстей... Сознательное пьянство с религиозной подоплекой. Можно еще трактовать его как “сверхзаконный” подвиг юродства. Можно даже как творческий метод. Можно пойти еще дальше и утверждать, что Алкоголизм и Наркомания — тоже способы познания мира, как и Искусство, Любовь, Наука. Лучше будет все же не ходить... Остановимся на юродстве, Михаил Эпштейн не без оснований упомянул о нем в связи с ерофеевским мифом. К сожалению, в его статье соотнесение Ерофеева с юродством строится, в основном, на поведенческом сходстве. К тому же, в массовом сознании, воспитанном на советских фильмах о Петре Великом да на Иване Козловском, юродивый до сих пор предстает в образе психически неполноценного человека. Вольно или невольно у Михаила Эпштейна получается уже какая-то мифология второго порядка, если можно так выразиться. На самом же деле, “интеллигентное юродство — не оксюморон и не парадокс. Юродство действительно было одной из форм интеллектуального критицизма. <...> Юродивый — актер, ибо наедине с собой он не юродствует. <...> Это, в сущности, резонер, консервативный моралист...” Только помня об этом, пожалуй, можно говорить о Ерофееве как о юродивом. У Эпштейна же упор сделан именно на нищету и неустройство, неумение чего-то достичь, глумление над близкими, творческое бессилие, беспробудное пьянство... Это лишь стереотип поведения, довольно распространенный среди советской интеллигенции. Ерофеев нам интересен, скорее постольку, поскольку не совпадает с ним. Словно по поводу своего “юродства” Ерофеев выписывает из поучений Игнатия Лойолы: “Работающий в винограднике Господнем должен опираться на землю лишь одной ногой, другая должна уже быть приподнята для продолжения пути”. И самому Ерофееву, очевидно, не был чужд пафос учительства. Вот несколько примеров наудачу: “И главное: научить их чтить русскую литературную классику...” “А вот еще моя заслуга: я приучил их ценить в людях еще что-то сверх жизнеспособности”. “И набожность должна быть одаренной...” “Научись скорбеть, а блаженствовать — это и дурак умеет”. “Следует вести себя удовлетворительно. Отлично себя вести — нехорошо и греховно”. “Пусть левая твоя щека не ведает, что тебя съездили по правой”. Или вот еще две цитаты, без которых, по-моему, не обходится ни одна статья о Ерофееве: “Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек”. “Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости! — всеобщее малодушие”. Кстати сказать, по поводу последней Е. А. Смирнова пишет, что “эта смешная пародия вплотную граничит с вовсе не смешной мыслью, наиболее отчетливо сформулированной у брехтовского Галилея: "Несчастна та страна, которая нуждается в героях"”. Мне не кажется, что это довольно верное социологическое наблюдение немецкого драматурга серьезнее мысли Ерофеева, вплотную граничащей с другой мыслью — “Блаженны нищие духом”. “В Бенедикте вообще была фундаментальность”, — пишет Лидия Любчикова. И вряд ли стоит толковать ерофеевские произведения “в духе веселой игры с Евангелием”. Обилие цитат и коннотаций служит у него, как мне кажется, той же цели, что и его знаменитая “противоирония” — ухитриться быть серьезным в современном мире. И юмор Ерофеева — прежде всего юмор человека, который знал, что “в мире нет ничего шуточного”, и писал, что надо “понемногу суживать тот круг вещей, над которым позволительно смеяться”, а высшим проявлением чувства юмора считал слова: “Не прелюбодействуй”. У Розанова есть такой пассаж: “Чтобы пронизал душу Христос, ему надо преодолеть теперь не какой-то опыт "рыбаков" и впечатление моря, с их ни "да", ни "нет" в отношении Христа, а надо пронзить всю толщу впечатлений "современного человека", весь этот мусор, и добро, преодолеть гимназию, преодолеть университет, преодолеть казенную службу, ответственность перед начальством...”. Стоит прибавить к этому власть Советов — задача усложнится до предела. Но, возможно, с целью ее решения Ерофеев и пользуется подчас столь рискованными приемами, поминает имя Господа всуе... “Рожа красная, как святые раны Господни” — именно чрезмерные неуместность и непристойность сравнения сводят на нет кощунство. Впрочем, даже если предположить, что Ерофеев сознательно ставил перед собой такую задачу (что было бы слишком большой натяжкой), об эффективности подобных приемов трудно судить. Многие люди в двадцатом веке пришли к вере через чтение Достоевского, а скольких в девятнадцатом он же заставил усомниться? Во всяком случае, ни о каком “вызывающе сниженном смеховом повествовании” у Ерофеева не может быть и речи. Идет постоянная “игра на повышение”. И насколько это не удалось Булгакову в “Мастере и Маргарите”, настолько это удается Ерофееву в “Москве—Петушках”. Потому и в его “Записных книжках” среди цитат из отцов церкви анекдот о “маленьком хроменьком шибздике Яшке” выглядит библейской притчей, а, скажем, песенка Алехи-диссидента из “Вальпургиевой ночи” — “мне все равно, что я говно” — арией Ж.-П. Сартра... Впрочем, и у Владимира Шинкарева слова об умении разлить два полных стакана водки из одной пустой четвертинки довольно точно передают сущность дзэн-буддизма, да и под словами второй из собак Г.А. подписался бы Блез Паскаль. Каждое утро в зеркале мы видим иллюстрацию ко второму закону термодинамики, а “кто истинный Толя” — тема популярная в новейшей философии. Собака лает, философ пишет, так что это, скорее, относится к всеобщей истории идей, чем, собственно, к Ерофееву. Что же я хочу сказать? III Тут мы вступаем в область предположений. Не было ли все художественное творчество Ерофеева для него лишь одним из способов (не главным) “пропаганды своих философских воззрений”, если можно еще так выразиться? Это объяснило бы отчасти и малый объем написанного им и его особое место в русской литературе... Но опять же вряд ли все так просто. Любой однозначности здесь очень мешает малоизученное явление таланта. Автор “Москвы—Петушков” не был, конечно же, книжным, “серьезным” философом. Его философия — религиозно-прикладная, философия повседневности, может быть, единственно важная философия. Ибо, если Бога нет, то все позволено, а если Бог есть, то затруднен и выбор цвета брюк. Или, по Ерофееву, “следует всегда четко представлять себе, зачем не пить”. В чем же суть этой философии, в чем смысл “учения Ерофеева”, если таковой есть? Можно ли, вообще, передать ее/его точнее, чем это сделано им самим, и стоит ли? Владимир Муравьев в мемуарах дважды упоминает о Честертоне, само собой напрашивается сравнение с Розановым, которому Ерофеев посвятил самое пафосное свое сочинение... Но что можно сказать об “учении Розанова”? Суть может быть только в самом подходе, в некоем “христоцентризме”, в толковании заповедей Господних на свой страх и риск. Возможно, Новый Завет и был той четкой структурой, с которой Ерофеев соотносил свою философию. Оригинальной структуры он не создавал. Венедикт Ерофеев слишком хорошо понимал, что такое смирение, чтобы проповедовать что-то кроме него. “О, не знаю, не знаю. Но есть”, — говорил Веничка, и Ерофеев отмалчивался “по самым коренным вопросам”. В 1987 году Венедикт Ерофеев крестился в католичество, но никогда не касался этого в разговорах. Мы не знаем, насколько важным для него было это крещение. Мы знаем только то, что он знал, что об этом следует молчать. И это тоже часть его учения. Венедикт Ерофеев — “вольный каменщик на богостроительстве”. В силу малой своей компетентности, я не могу судить о степени еретичности его убеждений, с какой-либо из ортодоксальных точек зрения. Также я не берусь судить о степени греховности его пьянства. Здесь дело даже не в том, что алкоголиком быть трудно (по временам так очень трудно), а в том, что расплата за этот грех, похоже, предусмотрена уже на этом свете. Венедикт Ерофеев, надеюсь, расплатился сполна. IV Все сказанное выше, конечно же, по большей части, субъективно, и я охотно допускаю, что все это можно еще перетолковать-перевытолковать. Пусть. Такая возможность — лишнее доказательство значительности Ерофеева, и слава Богу. Я же попробую сделать еще одно частное замечание. Исходя из сказанного выше, вернемся к “Москве—Петушкам”. Кто и почему убил Веничку? Не те ли ангелы небесные, что так подшутили над ним с хересом? Как приторно ласковы их голоса вначале, и как потом настойчиво, не обращая внимания на сквернословие и оскорбления, они искушают Веничку: “— И чего вам бояться за меня, небесные ангелы? — Мы боимся, что ты опять... — Что я опять начну выражаться? О, нет, нет, я просто не знал, что вы постоянно со мной, я и раньше не стал бы... Я с каждой минутой все счастливей... <...> Какие вы глупые-глупые!.. — Нет, мы не глупые, мы просто боимся, что ты опять не доедешь... — До пего не доеду?! До них, до Петушков — не доеду? До нее не доеду? — до моей бесстыжей царицы с глазами, как облака?.. Какие смешные вы... — Нет, мы не смешные, мы боимся, что ты до н е г о не доедешь, и он останется без орехов... — Ну что вы, что вы! Пока я жив... что вы!” И нет ли иронии и скрытой угрозы в их словах: “... как только ты улыбнешься в первый раз — мы отлетим и уж будем покойны, за тебя... — И там, на перроне, встретите меня, да? — Да, там мы тебя встретим...”? Это их последние слова в поэме, и почему-то они не набраны курсивом. Слова убийц также не выделены в тексте. Может быть, это случайность или ошибка редактора... Но ангелы отлетают, как обещали — и встречают, как обещали. В Петушках. Не на перроне, зато на Садовом Кольце. Вениной блаженной улыбке отвечает ангельский хохот. Не случилось ли с Веней того, что случилось со святым Исаакием Далматским? Не возмездие ли за эту ошибку настигло его? Или, быть может, за эту улыбку? Ведь сумел же загордиться человек; поверил в себя, так сказать, в свое счастье; разошелся, развеселился... Позабыл о том, что все идет медленно и неправильно, позволил себе напиться до беспамятства... И вот герой, знавший многие замыслы Бога, умирает так, как трехлетний младенец — “зная только одну букву "ю" и ничего больше не зная...” |
|
|
Tusik Кандидат Группа: Участники Сообщений: 1488 
|
Добавлено: 17-11-2007 16:14 |
|
Современные ско-роговорки 1. На дворе дрова, на дровах братва, у братвы трава вся братва в дрова. 2. Карл у Клары украл доллары, а Клара у Карла - квартальный отчёт. 3. Работники предприятие приватизировали, приватизировали да не выприватизировали. 4. Нищий шуршит тыщами и пятидесятитысячными. 5. Высшие эшелоны подшофе шествовали к подшефным по шоссе. 6. Регулировщики регулярно регулировали регуляторы. 7. Не видно - ликвидны акции или не ликвидны. 8. Налогооблагаемая благодать. 9. На ура у гуру инаугурация прошла. 10. Невелик бицепс у эксгибициониста. 11. Повадился дебил бодибилдингом заниматься. 12. Саша сама - само совершенство, а еще самосовершенствуется! 13. Бесперспективняк. 14. В Кабардино-Балкарии валокардин из Болгарии. 15. Деидеологизировали-деидеологизировали, и додеидеологизировались. 16. Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает. 17. Токарь Раппопорт пропил пропуск, рашпиль и суппорт. 18. Кокосовары варят в скорококосоварках кокосовый сок. 19. На нее из-за ели глазели глаза газели. 20. Недопереквалифицировавшийся. |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 18-11-2007 11:28 |
|
Автор: Татьяна Белогорская Статья: <КОРОЛЕВА> ИЗ <САТИРИКОНА> В 70-80-х годах XIX-го века в семье петербургского адвоката Александра Лохвицкого подрастали дочери. Родители - интеллигентные дворяне - проявляли горячий интерес к литературе и передали его детям. Впоследствии старшая, Мария, стала поэтессой Миррой Лохвицкой (1869-1905 гг.). Некоторые ее стихи были положены на музыку. Их звучание, как и личное обаяние автора, покоряло Игоря Северянина и Константина Бальмонта. Северянин относил поэтессу к числу своих учителей, а Бальмонт посвящал ей стихи. В память о ней он назвал свою дочь Миррой. Лохвицкая рано скончалась от туберкулеза и похоронена в Петербурге в Александро-Невской лавре. Сестра поэтессы стала писательницей-юмористкой (редкий для женщины жанр), пользовалась признанием в России, а затем и за ее пределами. Надежда Александровна Лохвицкая (Бучинская) писала под псевдонимом Тэффи. Начало ее творчества связано со стихами. Изящные и загадочные, они легко воспринимались и заучивались, их читали на вечерах и хранили в альбомах. Мой черный карлик целовал мне ножки, Он был всегда так ласков и так мил! Мои браслетки, кольца, брошки Он убирал и в сундучке хранил. Но в черный день печали и тревоги Мой карлик вдруг поднялся и подрос: Вотще ему я целовала ноги - И сам ушел, и сундучок унес! Впервые стихи Тэффи были напечатаны в 1901 году в журнале "Север". В связи с этим она вспоминала: "Когда я увидела первое свое произведение напечатанным, мне стало стыдно и неприятно. Все надеялась, что никто не прочтет". Сочиняла она и веселые, лукавые песенки, придумывала к ним музыку и пела под гитару. Пристрастие к рифме и гитаре Надежда Александровна сохранила на всю жизнь. Когда ее песенки перекочевали на эстраду, в репертуаре исполнителей был и "Карлик". За стихами последовали рассказы и фельетоны. С завидной регулярностью они появлялись на страницах многих газет и журналов. Длительное время Тэффи сотрудничала в "Сатириконе" (позднее "Новом Сатириконе"); одним из создателей, редактором и постоянным автором журнала был неутомимый остряк Аркадий Аверченко. В период расцвета своего творчества его называли "королем" юмора. Но в этом жанре "король" и "королева" работали по-разному. Если рассказы Аверченко вызывали громкий смех, то у Тэффи они были всего лишь веселыми. Она пользовалась пастельными тонами - подмешивала в палитру юмора немного грусти. Популярность того и другого не препятствовала их дружеским отношениям и соавторству. В частности, в "Сатириконе" Аверченко и Тэффи совместно составили пародийную "Всеобщую историю", текст которой сопровождали карикатуры. Книга вышла в 1910 году. И хотя существовало некоторое пренебрежение к творчеству Аверченко как представителю легкого жанра, Тэффи ценила его талант. "Место его в русской литературе свое собственное, я бы сказала - единственного русского юмориста", - утверждала она. Тэффи тоже, несомненно, имела собственное место в литературе. Вместе с тем Лев Толстой не очень жаловал ее, зато Софья Андреевна любила читать забавные произведения писательницы. Читателей подкупал острый взгляд юмористки и сочувствие к персонажам - детям, старикам, вдовам, отцам семейств, барынькам: В ее рассказах присутствовали и очеловеченные животные. По всей России ждали появления новых работ Тэффи, причем читательская аудитория состояла из представителей разных социальных слоев; это были адвокаты, гувернантки, белошвейки, профессора, актеры, приказчики: Особенно любила ее молодежь, в настольных периодических изданиях которой - "Сатириконе", "Русском Слове", Календаре-справочнике "Товарищ" - постоянно печатались произведения писательницы. Десятилетия спустя, драматург-сказочник Евгений Шварц вспоминал о своем увлечении Аверченко и Тэффи: "Она и Аверченко нравились мне необыкновенно. И не мне одному". Первая ее книга - "Юмористические рассказы" - появилась в 1910 году, когда писательница уже пользовалась популярностью. До революции сборник переиздавался 10 раз. Тогда же вышла вторая книга - "Человекообразные". Затем последовали и другие издания - "Дым без огня", "Карусель", "И стало так": Театры охотно ставили ее пьесы. С успехом шел спектакль "Король Дагобер". В 1916 году Малый театр поставил "Шарманку Сатаны". По мнению автора, постановка оказалась так "погружена в темное царство провинциального быта, тупого и злого", что пришлось, для оживления использовать стихи Бальмонта. Находка Тэффи удалась. Поклонниц Надежды Александровны (а их было немало) ее друзья именовали "рабынями". Случалось, какая-нибудь из них преданно располагалась у ног кумира. В креслах Императорских театров дамы держали в руках коробки конфет под названием "Тэффи". Духи тоже носили ее имя. В процессе подготовки юбилейного альбома, посвященного 300-летию царствования дома Романовых, Николай 2-й выразил желание видеть в нем Тэффи. По этому поводу царь воскликнул: "Тэффи! Только ее. Никого, кроме нее, не надо. Одну Тэффи!" Наблюдательная, общительная, независимая в суждениях, обладающая высоким творческим потенциалом, она заражала оптимизмом и вносила струю оживления в литературно-артистическую атмосферу Петербурга. Тэффи принимала участие в писательских собраниях, концертах, благотворительных акциях, комиссиях: И, конечно, посещала ночной кабачок "Бродячая собака", где на маленькой сцене какой-нибудь из "рабынь" случалось исполнять ее песенки. На литературных вечерах у Федора Сологуба по просьбе хозяина она регулярно читала свои стихи. После революции ее привлекали творческие поиски обитателей "Дома искусств" (Сумасшедшего корабля), разместившегося в реквизированном у купцов Елисеевых особняке на углу Невского и Мойки. Тогда же Тэффи охотно взяла на себя труд охраны художественных ценностей. С этой целью под руководством Сологуба было создано специальное общество. По этому поводу она писала: "Заседали мы в Академии художеств. Требовали охраны Эрмитажа и картинных галерей, чтобы там не устраивали ни засад, ни побоищ". Из их усилий, включая обращение к Луначарскому, так ничего и не вышло. Если Тэффи в целом положительно отнеслась к февральской революции, то после октябрьской вынуждена была покинуть Россию. В 1919 году она перебралась в Крым, затем в Константинополь. Оказавшись в 1920 году в Париже, она разделила с соотечестсвенниками-эмигрантами выпавшие на их долю трудности - испытала нужду, болела тифом, тосковала по родине: В печати появилась ее заметка, текст которой говорит сам за себя. Ностальгия Пыль Москвы на ленте старой шляпы Я как символ свято берегу ...Приезжают наши беженцы. Изможденные, почерневшие от голода, отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь, и вдруг гаснут. Тускнеют глаза, опускаются вялые руки, и вянет душа, обращенная на восток. Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли. Боялись смерти дома и умерли смертью здесь. Вот мы - смертью смерть поправшие. Думаем только о том, что теперь там: Интересуемся только тем, что приходит оттуда. Таков портрет вытесненной революцией интеллигенции, созданный очевидцем. Тем не менее, жизнелюбие Тэффи не позволило ей опустить руки, увянуть. Она не просто выжила, а стала любимым автором соотечественников. В начале 20-х годов в Париже оказались многие русские писатели, в их числе Иван Бунин с Верой Муромцевой, Нина Берберова и Владислав Ходасевич, Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, Георгий Адамович: В 1921 году, в связи с созданием "Союза писателей", появилась надежда на их творческую кооперацию. Стали выходить "Последние новости". Респектабельность газеты отличала ее от наводнившей Париж "желтой прессы". Ее - единственную - регулярно выписывал Бунин. Фельетоны и рассказы Тэффи постоянно печатались в "Последних новостях", в газете "Звено", в таком солидном журнале, как "Современные записки" и в других эмигрантских изданиях. В 1920 году работу Тэффи перепечатала советская "Правда". В русском драматическом театре в Париже показателем успеха считалось количество сыгранных спектаклей. Одно представление означало провал, четыре - успех. В частности, публике нравилась ее пьеса "Ничего подобного". Востребованность Тэффи объяснялась не только ее талантом, но и жанром, который она представляла. Шли годы: В 1939 году газета "Последние новости" опубликовала протест русской эмигрантской интеллигенции против вторжения СССР в Финляндию. Это письмо вместе с Тэффи подписали И.Бунин, С.Рахманинов, Н.Бердяев, Дм.Мережковский, Вл. Набоков (Сирин) и др. Во время оккупации Парижа гитлеровской Германией Тэффи по болезни не уехала. Ей было уже 70 лет. Страдая от голода, холода, проводя ночи в бомбоубежище, она вела себя мужественно и достойно. Соотечественников вокруг становилось все меньше. Перед войной умер поэт Ходасевич; в 1941 году не стало Мережковского, а годом позднее - кумира России Бальмонта, обнищавшего и забытого изгнанника. В газовой камере погибла поэтесса Кузьмина - Короваева (Мать Мария). В 1945 году умерла Гиппиус. Поскольку после войны число русских изданий во Франции резко сократилось, произведения Тэффи стали появляться в эмигрантской печати США. В 1949 году ее работа была напечатана в газете "Новое русское слово". Гибкий и находчивый ум, легкий характер, делали Надежду Александровну душой общества. Она умела в считанные минуты снимать напряжение, гасить назревающий конфликт. Непоседа Тэффи постоянно что-то придумывала. Русский Париж повторял ее остроты, некоторые из которых превращались в aphorism.ru/" title="афоризмы, фразы">афоризмы. Летом 1946 года в Париж прибыла Советская делегация, в задачу которой входило разъяснение Указа Советского правительства о возвращении русских эмигрантов на родину. В составе миссии был Константин Симонов. В первом ряду вместительного зала, заполненного русскими, сидели корифеи - Бунин и Тэффи. После выступления посла Симонов прочел "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины:" Зал замер. Затем Симонов подошел к Бунину и Тэффи, они познакомились. Бунин спросил Симонова, почему ничего не слышно о таких талантливых писателях, как Бабель и Пильняк. Бунину была известна трагическая судьба многих советских деятелей культуры. Вопрос вызвал всеобщее замешательство. Симонов ответил дипломатично, по-военному: "Не могу знать". И тут тактично выручила Тэффи. Она рассказала какую-то смешную историю, раздался хохот, тучи рассеялись. Поцеловав ей руку, Бунин поведал собравшимся (с ее разрешения) о другом забавном случае. Кстати, одно из писем Бунина к Тэффи заканчивалось так: "Целую Ваши ручки и штучки-дрючки". На что в ответ Тэффи написала: "Если ручки хоть редко, но целуют мне, штучки-дрючки уже лет пятьдесят никто не целовал". На вечере в честь Симонова Тэффи пела под гитару, на следующем - у Бунина - тоже. Через много лет были опубликованы воспоминания Симонова, в которых он описал эти встречи и их участников - Бунина, Тэффи, Адамовича... Дружба Ивана Алексеевича и Надежды Александровны никогда не прерывалась. Бунин высоко ценил ее талант. Кроме того, остроумие Тэффи вносило разнообразие в его непростую жизнь. Они обменивались новостями, сотрудничали в периодических изданиях, читали друг другу свои произведения, переписывались, чаевничали. Особенно рассмешил Бунина рассказ "Городок", который Тэффи прочитала писателю перед публикацией, сопровождая чтение полной комизма мимикой. Там были такие строчки: "Городок был русский, и протекала через него речка, которая называлась Сеной. Поэтому жители городка так и говорили: живем худо, как собаки на Сене:" Бунин хохотал до слез. В последствии писательница включила "Городок" в сборник "Русь". Наиболее характерными чертами Тэффи были сочувствие и милосердие. С годами эти качества все громче заявляли о себе. Светлое начало - доброту и нежность она пыталась увидеть там, где их, казалось бы, и вовсе не было. Даже в душе Федора Сологуба, которого считали "демоном" и "колдуном", она открыла глубоко спрятанную теплоту. Подобным образом относилась Тэффи и к Зинаиде Гиппиус. Они сблизились во время войны, вскоре после смерти Мережковского. В холодной Гиппиус - "Белой Дьяволице" - Надежда Александровна пыталась разглядеть что-то свое. "Где подход к этой душе? В каждом свидании ищу, ищу: Поищем и дальше, - писала она. И, наконец, подобрала "некий ключ", открыв в Гиппиус простого, милого, нежного человека, прикрывающегося холодной, недоброй, иронической маской. Незадолго до смерти Тэффи призналась поэту Георгию Адамовичу: "Знаете, я хочу написать книгу о второстепенных героях: Больше всего хочется мне написать об Алексее Александровиче Каренине, муже Анны. К нему у нас ужасно несправедливы!" За шесть десятилетий творчества писательница осталась верной своему правилу - не осуждать своих персонажей. Не занималась поучениями, не строила воздушных замков - разве что помогала взглянуть на мир весело, с оптимизмом. В этом, вероятно, один из секретов ее успеха. Поздние книги Тэффи - "О нежности" и "Все о любви" - передают состояние души автора. Для них характерно окрашенное в грустные, минорные тона переплетение житейской мудрости и милосердия. Тэффи провела в эмиграции 32 года. Кроме Парижа, ее работы печатались в Берлине, Белграде, Стокгольме, Праге. На протяжении жизни она опубликовала не менее 30 книг (по некоторым источникам 40), примерно половина из которых вышла в эмиграции. Кроме рассказов, фельетонов, пьес, стихов ее перу принадлежат повести и роман. Особое место в творчестве Тэффи занимают воспоминания о деятелях русской культуры - З.Гиппиус, А.Куприне, Ф.Сологубе, Вс.Мейерхольде, Г.Чулкове. В свою очередь, воспоминания о писательнице оставили И.Бунин, Дм.Мережковский, Ф.Сологуб, Г.Адамович, Б.Зайцев, А.Куприн. Александр Вертинский использовал в песенном творчестве ее лирические стихи. Скончавшись в преклонном возрасте, Тэффи на 47 лет пережила свою сестру Машу - поэтессу Мирру Лохвицкую. Пережила она и всех, включая младших, собратьев по перу в "Сатириконе", - Арк.Аверченко, Вл.Войнова, Арк.Бухова, Вл.Лихачева, Сашу Черного... В октябре 1952 года Надежда Александровна Тэффи была похоронена на русском кладбище Сент-Женевьев де Буа под Парижем. Годом позже здесь же появилась могила Бунина. На похоронах академика, Нобелевского лауреата присутствовало 11 человек. Кто провожал в последний путь ее - сколько было провожающих? Как бы там ни было, имя Тэффи продолжает оставаться на слуху и через 50 лет после ее смерти. В 60-х годах ее начали печатать и на родине. Только в последние годы вышло около десятка ее книг, включая изданный в 1998 г. пятитомник избранных произведений |
|
|
Tusik Кандидат Группа: Участники Сообщений: 1488 
|
Добавлено: 24-11-2007 21:16 |
|
Выход в real. Памятка для девушек Ну что ж, девочки, и такое встречается: как бы ни было противно, приходится таки жать на крестик справа вверху иксплорера, выключать компьютер и выходить из дома в чужой и непонятный реал. Тем, уже забыл или еще не знает, что там делают, несколько советов: 1. Выключите компьютер. Нет, не в стенд-бай его, а по-настоящему. И вон ту кнопочку красную нажмите, чтобы погасла. 2. Тут у вас мгновенно образуется ломка: ничего и никуда не хочется. В таком случае рекомендуется сделать себе Reset - нет, молотком по голове так уж сразу не надо, примите лучше контрастный душ. 2. Подзарядите аккумуляторы: для этого откройте холодильник и разыщите там что-нибудь съедобное. 3. Теперь фотошопим морду. Инструменты берем следующие: - Если все совсем запущено: цвета поблекли, контрастность не в ту степь, какие-то помарки, делаем Маску. Для чего берем подручные текстуры вроде клубники. Выделяем аккуратно - ну, не мне вас учить - все, кроме глазок и рта, ходим минут 15, потом снимаем выделение. Водой. - Следующий этап - Слои. Это у них называется грундирование. Кто-то обходится одним, кто-то наносит только на выделенные участки (нос, например). Учтите: до фонового слоя всякие там прыщики не стираем, а просто замазываем. - Далее идут Фильтры. Например, для эффекта размытия (Blur) наносим пудру. Цвета улучшаем румянами. - Ну и прорисовка кистями-карандашами: бровки, глазки... Но никаких бликов! Реальная морда блестеть не должна. - Волосы: улучшаем текстуру, допустим, расческой. 4. Оденьтесь как следует. Для железки любимой вам, небось, ничего не жалко: Виндоус раз в неделю обновляете, Anti-spy всегда новенький... - вот и себя так же приапгрейдите. И не забываем о цветовом балансе v припомните ваш десктоп или диаграммы цветосочетаемости для веб-дизайнеров. 5. Выходя из дома, не забудьте ключи, а то потом не залогинитесь. Пароль не нужен. 6. Вы выходите на улицу! Это как заходить на незнакомый сайт! Там находятся чужие опасные люди, грязные поручни и прочие неприятности. С хорошими антивирусами в реале плохо, разве что, прививка против гриппа, и то. В общем, не забываем о файерволле, т.е. не зеваем по сторонам и не едим где попало, а то там такое можно закачать... 7. И кстати, запомните: бесплатной закачки в реале не водится. И взламывать тут безнаказанно тоже куда проблематичнее. Зато и регистрации в магазинах и т.п. не требуется. 8. Быстро прыгать по линкам не получится - для этого там имеется общественный транспорт. По скорости куда медленнее модемного соединения и может очень надолго зависнуть (это называется "пробка" , но совсем вырубается реже. Плохо пахнет, зато оплата не поминутная и от траффика не зависит. 9. С траффиком плохо везде: в транспорте бывает не сядешь, в магазине даже с деньгами сразу ничего не купишь - другие забивают, надо очередь занимать. А уж банального "спасибо за покупку в нашем магазине" сто лет будете дожидаться. 10. Надпись "Закрыто на переучет" это что-то вроде "Site Under Construction". 11. С реальной почтой лучше вообще не связываться во избежание культурного шока. Хотя аттачменты можно пристегивать солидные. Зато их и уворовать могут. 12. Книги тут тоже можно скачать в библиотеке! Только потом надо вернуть. А архивом брать нельзя, так что приходится все эти килограммы на себе в итоге тащить. 13. Рекламные баннеры не убираются. Вы также не сможете определять их примерный контент, даже если они находятся на вашей улице. 14. Спамеров тут навалом - просто отодвигайте в сторону. Флейма и прочих придурков тоже полно, причем просто наорать или закрыть страничку не выйдет - лучше побыстрее смотаться. Запомните, девочки: что для сети быстрые пальчики, то для реала быстрые ноги. 15. С другой стороны, чатиться с незнакомыми в принципе возможно - но могут не так понять. Не пытайтесь, употребляя глаголы в неопределенной форме, давить на "-цца" - в устной речи это звучит не так понтово. 16. Случайно встретившихся знакомых лучше сначала поприветствовать формально (Привет!), задать пару-тройку вопросов на не интересующие вас темы (Как дела?) и только потом спрашивать, выделенка у них или стрим. Флудить, а также сплетничать разрешается - здесь вас никто случайно не прочитает. Хотя не помешает отрегулировать звук. 17. А вот это здание - ваша работа. Авторизируйтесь, если нужно, у вахтера, поднимайтесь по лестнице (ножками-ножками)... вот ваш стол, ваш компьютер, ваша аська... а дальше вы и сами знаете. |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 25-11-2007 13:38 |
|
Прописано смеяться ЛЕПЕШКО Борис Почему юмор упал «ниже плинтуса»? Доктора утверждают, что смеяться еще и полезно. Мышцы живота, спины, лица — все в работе. Тренируются, когда мы смеемся. С головным мозгом хуже, о нем доктора ничего не говорят. Да еще и вопрос: полезно ли лишний раз напрягать головной мозг? Тут советоваться надо. На днях посмотрел передачу российского канала ТВЦ. Серьезные, солидные люди, профессионалы своего ремесла убеждали друг друга, что юмор нынче упал «ниже плинтуса». Рассчитано все на «массу», которая, как известно, все «схавает». Был, кстати, среди экспертов и доктор, почему–то психиатр. Так он легко убедил всех в том, что юмор остался прежним. А вот «масса» изменилась. Раньше она, как трава жила, ни о чем не задумываясь. А вот нынче жизнь тяжела и юмор выступает в роли буфера, смягчает, так сказать, удары судьбы. Кто–то из зала в это время вопрошал: «А почему нет политического юмора?» Вот подумайте над ремаркой психиатра — к любопытным выводам придете. Часто звучало сравнение с юмористами и соответствующими передачами советского периода. Правильно говорили о том, что когда–то боролись с хамством, а ныне хам хозяйничает на эстраде. Как–то постеснялись добавить, что и артисты изменились. Раньше сошел Аркадий Райкин со сцены и такой же, как все, советский человек, словом. А нынче читаешь о замке, который Максим Галкин возводит в заповедных лесах, и вспоминаешь вещие слова, что «страшно далеки они от народа». Надо признать, «обслуживают» граждан не только записные юмористы, профессионалы шутки, выдающие еженедельно программы. Точно так же обслуживают нас, например, певцы — одна «Фабрика звезд» чего стоит. Странная вещь: получается, что пресловутый «вал» из экономики перекочевал в культуру. Вот и гонят нам, не жалея сил, халтуру–песню, халтуру–шутку, халтуру–мизансцену. Как–то незаметно забылось, что концерт, выступление — вещь «штучная», к ней готовиться надо, репетировать. А чего там репетировать? «Прикид», как у «новых русских бабок», напялил, уже и смеются. Получается, что для смеха этого достаточно. Психология, брат, здесь понимать надо. Есть, правда, у обслуживающих народонаселение артистов и продюсеров один мощный аргумент: так ведь залы — полные, рейтинги — высокие, вот и напрягаемся, ищем новые формы, от сценического воплощения до путешествий по матушке Волге, как это делает небезызвестный «Аншлаг». Думается, что здесь скрыто одно известное лукавство. Суть его в том, что вначале навязывается некая схема поведения, например: «Все смеются!» А уже затем эта схема признается общераспространенной и такой же употребительной. Вот смотрим телесериал о широко известной «прекрасной няне»: реплики есть, а кто смеется, неведомо. Этот же момент апробирован многими юмористами. Только в роли людей, профессионально щекочущих зрителей, выступают достаточно умелые ребята, натасканные на эти дела в своих школах широкого культурно–экономического профиля и прочего менеджмента. Есть здесь и другая правда: действительно, залы полные. Действительно, хамские пассажи одного известного деятеля, обращающегося к зрителям с доверительно–наглым «эй, мужик», встречают громом аплодисментов. Получается, что обращение к «нижней половине» человека и соответствующим проблемам встречает полное понимание со стороны зрительного зала. Причем сочувствие, выраженное в самой дорогой, материальной форме. Так что, в самом деле, остается тем, кто не в зале? Не нравится — не смотри? Читай своего Достоевского и не мешай нам смеяться? Ну, во–первых, мы все в какой–то мере заложники телевидения: и не хочешь, а увидишь. А если и не увидишь, то расскажут. Живем ведь не в вакууме. Но не это главное. Главное в том, что ведь понимаешь: можно и писать, и рассказывать со сцены смешно и, представьте себе, без мата. Что юмор может быть интеллектуальным и не обязательно хамским. Что беспардонное «тыканье», обращение к половой сфере как главному средству рассмешить оскорбляет саму половую сферу. Перечитываешь, скажем, Аркадия Аверченко и удивляешься: если бы писали так нынче, то на сцену не показывайся, не смешно. Что уж говорить о благородной Тэффи. Джером с его изысканными шуточками в традиционном английском духе вообще неподъемен. Подумаешь, смешно: трое в лодке или на велосипедах. Может, сгодился бы Гашек с непобедимым Швейком, но почему–то тоже невостребован. Может, потому, что откровенность там сродни саморазоблачению? Из классиков популярны разве что Жванецкий и Задорнов. Так ведь тоже «старички», матерное слово если и решатся произнести, то краснеют потом, как дети. Вот Аркадий Арканов на упомянутой встрече в телестудии молодец молодцом: резал правду-матку не стесняясь. Говоря о необходимости интеллектуальных текстов, о важности привлечения подлинных писателей к творческому содружеству с актерами, в завершение действительно умного спича во славу «настоящего юмора» и таких же текстов неожиданно и в сердцах произнес: да молодым актерам «не нужны ни хрена такие тексты и такие авторы». Вот это подлинный радетель за интеллектуальное будущее отечественной эстрады. Получается, что высказаться подобным образом — это некая доблесть, это значит — быть современным, креативным, идти, словом, в ногу или еще с чем–нибудь в нижней части тела одновременно. Причем все и с каким–то комсомольским задором подхватили лихое аркановское выражение и стали его повторять, счастливо улыбаясь при этом и дивясь собственным лихости и молодечеству. Конечно, наш народ не надо призывать вступать поголовно в ряды орлеанских девственниц — иногда, бывает, выражаются. Иногда, простите, может, и надо выразиться. Но ведь не при дамах, так сказать, не в общественном месте. А то ведь так недолго забыть, где находишься, — то ли в пивной, то ли в публичном доме, то ли на эстраде. А может, и нет здесь нынче никакой разницы? |
|
|
msi_masa частый гость Группа: Участники Сообщений: 15 |
Добавлено: 27-11-2007 12:27 |
|
На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Ты подходишь к нему и говоришь: "со мной классно в постели". Это - прямой маркетинг. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Один из твоих друзей подходит к нему и говорит: "с ней классно в постели". Это - реклама. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Ты подходишь к нему и просишь номер телефона. На следующий день ты звонишь ему и говоришь: "со мной классно в постели". Это - телефонный маркетинг. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Ты поднимаешься и поправляеш платье, подходишь к нему и наливаешь ему напиток. Ты говоришь: "позвольте" и подходишь к нему ближе, чтобы поправить ему галстук, и одновременно касаешься грудью его руки, а затем говоришь: "кстати, со мной классно в постели". Это - пиар. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Он подходит к тебе и говорит: "я слышал, с тобой классно в постели". Это - узнаваемый брэнд. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Ты уговариваешь его пойти с твоей подругой. Это - торговое представительствою. Твоя подруга не удовлетворяет его, поэтому он звонит тебе. Это - техническая поддержка. Ты на пути на вечеринку и вдруг тебе в голову приходит мысль, что в тех домах, мимо которых лежит твой путь, может быть много симпатичных мужчин. Ты залезаешь на крышу одного из домов, расположенных ближе к центру и кричишь во все горло: "со мной классно в постели!". Это - спам. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Путем хитрых махинацй ты устраиваешь грязную склоку между присутствующими девушками, а сама остаешься в стороне. Когда все передеруться, ты говоришь "пойдем отсюда! кстати, со мной классно в постели!". Это - черный пиар. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. ты подходишь к нему и говоришь: "Помнишь, как тебе было классно в постели со Светкой? Это я ее научила. Пойдем со мной". Это - лизинг. На вечеринке ты видишь несколько симпатичных парней. Ты всем им пишешь записки о том, как с тобой будет классно в постели. Это - директ-мейл. Ты идёшь по улице и засмотревшись на огромное количество парней впечатываешься в рекламный щит, на котором изображены шикарные постели. Это - печатная реклама. Ты приходишь на вечеринку, а там куча красивых девиц. Ты приспускаешь бретельку и говоришь: "Со мной круто в постели и шоколада с шампанским не надо". Это - демпинг. Ты приходишь на вечеринку и говоришь "Со мной круто в постели, но за моё тело хочу шоколад и шампанское". Это - бартер. Ты приходишь на вечеринку и говоришь "Со мной круто в постели, и ты будешь моим третьим парнем за этот вечер". Это - сетевой маркетинг. На вечеринке ты сразу громко заявляешь - "Кто интересуется как я в постели, - за мной!" и уводишь их на другую вечеринку. Это - позиционирование. На вечеринке ты вырубаешь свет и трахаешь первого попавшегося парня. Это - товар noname. На вечеринку ты вообще не пошла, но говорят там только о том, как ты хороша в постели. Это - раскрученная торговая марка. Вечеринка проходит у тебя дома и приглашены только парни с которыми ты переспала. Это - конференция разработчиков. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Подходишь к нему и говоришь, что тебя зовут Светка. Все знают как хорошо в постеле со Светкой. При этом Светка знает, что ты выдала себя за неё. За это Светка получает шоколадку. Это - франчайзинг. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Подходишь к нему и говоришь, что с тобой классно в постели. Уходишь с ним. Утром он говорит, что не совсем доволен тобой. Это - рекламация. Ты пришла на вечеринку с подругами и вы видите симпатичного парня. Каждая из вас рассказывает как круто с ней в постели и что она за это хочет получить. Это - тендер. Твоя подруга пришла на вечеринку и увидела симпатичного парня. Подойдя к нему она предложила ему поехать к тебе домой и что с тобой очень классно в постеле, но это ему будет стоить 2 бутылки шампанского и три шоколадки. В случае если ты ему не понравишься, "рассчитается" подруга. Это - агентский договор. Подруга - агент. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Подходишь к нему и говоришь, что с тобой классно в постели. Уходишь с ним. Утром он говорит, что он очень доволен тобой и ты была права, когда говорила, что с тобой классно в постеле. Это - аттестация продукции. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь много симпатичных парней. Ты говоришь, что с тобой очень классно в постеле и переспать с тобой сможет тот, кто предложит больше шампанского и шоколада. Это - аукцион. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Подходишь к нему и говоришь, что с тобой классно в постели. Уходишь с ним. Утром он говорит, что он очень доволен тобой и хотел бы встретится с тобой в следующий раз. Договариваетесь на 2 бутылки шампани и одну шоколадку. Это - фьючерс. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Подходишь к нему и говоришь, что с тобой классно в постели. Уходишь с ним. Утром он говорит, что очень доволен тобой, за что ты требуешь дополнительно 1 шоколадку. Это - бонификация. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Подходишь к нему и говоришь, что с тобой классно в постели. Уходишь с ним. Утром он даёт тебе шампанское, но не даёт шоколадку. Это - дебиторская задолженность. Ты собираешься на вечеринку, а подруга уже там и распространяет записки в которых описано, как с тобой хорошо в постели. Это - распространение пресс-релиза. Записка - прес-релиз. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Подходишь к нему и говоришь, что с тобой классно в постели и что сегодня тебе даже не хочется шоколада, достаточно шампанского. Это - скидка. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Подходишь к нему и говоришь, что с тобой классно в постели. Он тоже говорит что с ним классно в постели и вы уходите вместе. Это - натуральный обмен. Ты приходишь на вечеринку и видишь симпатичного парня. Ты говоришь ему что с тобой классно в постели. На что он говорит тебе, что забыл презервативы дома. Это - оценка рисков. Ты приходишь на вечеринку и видишь симпатичного парня. Ты говоришь ему что с тобой классно в постели. На что он говорит тебе, что забыл презервативы дома. Ты показываешь ему справку об отсутсвии венерических заболеваний и вы уходите вместе. Это - банковская гарантия. Ты приходишь на Новогоднюю вечеринку и видишь кучу красивых парней, говоришь, что переспать с тобой стоит пять шоколадок и три бутылки шампанского, к концу вечеринки надираешься в ноль, просыпаешься в постели с каким-то уродом... Это - сезонная распродажа. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Подходишь к нему и говоришь, что с тобой классно в постели. Уходишь с ним. Приходите домой, а дома муж. Симпатяга уходит несолоно хлебавши, ты получаешь в глаз. Это - форс-мажор. Ты приходишь на вечеринку, заявляешь, что с тобой классно в постели и стоит это три шоколадки и бутылку шампанского, но тому, кто переспит с тобой пять раз за ночь это обойдется в один шоколадный батончик... Это - оптовая скидка. .....Вы договариваетесь, что в будущем это ему будет стоить 2 бут. шампанского и 3 шоколадки, но если к этому времени цена будет 2 бут. шампанского, на разницу он может посмотреть стриптиз. Это - фьючерс. (Примечание: фьючерс - это типа ценная бумага, обещаешь, что через какое-то время купишь что-то по определенной цене) Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Через некоторое время от него тебе приходит записка в которой он предлагает тебе переспать с ним, так как он знает, что с тобой классно в постели, хочет чтобы ты показала ему что-то из Кама-Сутры и за все это он готов заплатить 2 бутылки шампанского и 7 шоколадок. Это - заявка. Если в записке есть твердое утверждение, что он готов воспользоваться твоими услугами, то Это - заказ. Ты приходишь на вечеринку и говоришь всем, что с тобой классно в постели... Через пару дней все парни с вечеринки встречаются в КВД. Это - жертвы недобросовестной рекламы. Ты приходишь на вечеринку. К тебе подходит важный пацан и говорит "Я слышал с тобой классно в постели? Готовься". Ты обращаешься к очень опытному пацану и предлагаешь проверить действительно ли ты так хороша в постели. Это - аудиторская проверка. Небольшое отвлечение на особенности национального рынка... Ты приходишь на вечеринку и говоришь что с тобой круто в постели. К тебе подваливает пара мощных девчат и говорят: "Мы согласны на 30% шоколада и 40% шампанского в месяц. Иначе у тебя могут возникнут проблемы.". Это - "крыша". Ты приходишь на вечеринку и говоришь пятерым присутствующим там парням, что если каждый из них расскажет пятерым своим корешкам, что с тобой круто в постели, а те в свою очередь еще пятерым и т.д., то они поимеют тебя даром. Когда уже полстраны мечтает, как с тобой круто в постели, ты всех динамишь и скрываешься в неизвестном направлении. Это - МММ. Ты приходишь на вечеринку, но тебя никто не хочет, одни кричат "дорого!", другие слышали от знакомых, что ты не так уж хороша в постели, третьи еще не долечились после предыдущего раза... Тогда ты сваливаешь и катишь на другую вечеринку в ближайший Урюпинск... Там тебя хотят все, заваливают подарками и норовят познакомиться поближе... Это - работа с регионами. Прочитав кучу книг и потренировавшись перед зеркалом, ты приходишь на вечеринку кричишь "Со мной круто в постели, последние новинки Кама-Сутры, шелковое белье, реальный свет". Потом из груды парней выбираешь несколько счастливчиков - желательно поразнообразнее и тащишь за собой. Каждый с тобой спит, отлавливая баги и криво положенные простыни. Это - бета-тестирование. Ты приходишь сама. Это - самовывоз. Ты ходишь по всем вечеринкам и даешь тем, кто больше заплатит, ни слова не говоря о том, что давно и неизлечимо больна. В результате у тебя и всех клиентов куча болезней, правда все клиенты помалкивают и лечатся кто как может... Это - проприетарный софт. Ты не можешь сама попасть на вечеринку, звонишь и говоришь, что вместо тебя придут Света, Наташа и близняшки Упокоевы, которые совершенно не хуже тебя в постели... На днях ты получила с них по шоколадке... Это - сертификация специалистов. Ты приходишь на вечеринку, находишь крутого парня... Подходишь, ка-а-ак шибанешь его по темечку бутылкой.. Парень вырубается. Ты тащишь его к себе в постель. Это - взлом системы. Ты приходишь на вечеринку, вся такая красивая, сексуальная и уверенная в себе... Ты знаешь, что в постели ты лучшая... Ты готова совершенно бесплатно отдаться хорошему парню... Но всех парней расхватали какие-то грымзы и сосут из них бабло... Это - рынок, детка. |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 27-11-2007 19:12 |
|
Меняющиеся мужчины в изменяющемся мире. Российский мужчина и его проблемы Как выглядят на этом фоне российские мужчины? Если верить тому, что мы сами о себе пишем, в России "настоящих мужчин" нет, не было и быть не может. "Мужчина состоит из свободы, чести, гипертрофированного эгоизма и чувств. У русских первое отняли, второе потерялось, третье отмерло, четвертое – кисель с пузырями"19. На мой взгляд, ситуация не столь безнадежна. Глобальные тенденции, о которых говорилось выше, просто осуществляются у нас в соответствии с национальными особенностями страны, сложившимися задолго до 1917 года. Гендерный порядок и стереотипы маскулинности в России всегда были противоречивыми. Хотя древнерусское общество было типично мужским и патриархатным, женщины играли заметную роль не только в его семейной, но и в политической и культурной жизни. В русских сказках присутствуют не только образы воинственных амазонок, но и беспрецедентный, по европейским стандартам, образ Василисы Премудрой. Европейских путешественников и дипломатов XVШ - начала XIX в. удивляла высокая степень самостоятельности русских женщин, то, что они имели право владеть собственностью, распоряжаться имениями и т.д Старые и новые философы, фольклористы и психоаналитики в один голос говорят об имманентной женственности русской души и русского национального характера. "Тайна души России и русского народа, разгадка всех наших болезней и страданий - в недолжном. В ложном соотношении мужественного и женственного начала", - писал Н.А. Бердяев, отмечая недостаток "мужественности в народе, мужественной активности и самодеятельности".20 По словам Георгия Гачева, "субъект русской жизни - женщина; мужчина - летуч, фитюлька, ветер-ветер; она - мать-сыра земля. Верно, ей такой и требуется - обдувающий, подсушивающий, а не орошающий семенем (сама сыра -- в отличие от земель знойного юга); огня ей, конечно, хотелось бы добавить к себе побольше..."21. В русском языке и народной культуре Россия выступает в образе матери. В русской семье существовало особое почтение к женщине-матери, тогда как отцы и мужья часто выглядят слабыми и несамостоятельными. Маскулинность часто проявлялась главным образом в деструктивной и антисоциальной форме – в бесшабашной удали, пьянстве, драках и т.п. Некоторые историки связывали это с политическим деспотизмом и недостатком индивидуальной предприимчивости. Советская власть продолжила эту противоречивую традицию. При этом, как пишет Михаил Золотоносов, "... атлетов тщательно отбирали по экстерьеру. Набор эстетических требований к мужскому телу включал отсутствие волос на теле и лице, открытый детский бесхитростный взгляд, широкие плечи, выпуклую грудь, крупные гениталии. При этом не допускалось чрезмерности развития мышц: тело не должно было выражать агрессию, пугать" (Золотоносов, с. 133) Советский тоталитаризм, как и всякий иной, был по своей сути мужской культурой. Официальный телесный канон советского искусства 1930-х годов характеризуется "обилием обнаженной мужской плоти"22 – парады с участием полуобнаженных гимнастов, многочисленные скульптуры спортсменов, расцвет спортивной фотографии; не построенный культовый Дворец Советов должны были украшать гигантские фигуры обнаженных мужчин, шагающих на марше с развевающимися флагами. Правда, в отличие от нацистского, в советском искусстве гениталии всегда закрыты, его телесный эталон больше напоминает унисекс. Но этот "унисекс" как в эстетике, так и в педагогике, был сильно маскулинизирован. Советское "равенство полов" молчаливо предполагало подгонку женщин, включая и их тело, к традиционному мужскому стандарту (все одинаково работают, все готовятся к труду и обороне, никаких особых женских проблем и т.д.). Одним из аспектов этой политики была и лицемерная большевистская сексофобия. Однако гипертрофия одних "маскулинных" ценностей (коллективизм, дисциплина, самоотверженность) достигалась за счет атрофии других, не менее важных черт - энергии, инициативы, независимости и самостоятельности. Экономическая неэффективность советской системы, в сочетании с политическим деспотизмом и бюрократизацией общественной жизни оставляли мало места для индивидуальной инициативы и независимости. Чтобы добиться экономического и социального успеха, нужно было быть не смелым, а хитрым, не гордым, а сервильным, не самостоятельным, а конформным. С раннего детства и до самой смерти советский мужчина чувствовал себя социально и сексуально зависимым и ущемленным. Социальная несвобода усугублялась глобальной феминизацией институтов социализации и персонифицировалась в доминантных женских образах. Это начиналось с раннего детства в родительской семье. Из-за высокого уровня нежеланных беременностей и огромного количества разводов, каждый пятый ребенок в СССР воспитывался без отца или хотя бы отчима. В середине 1980-х гг. только в так называемых материнских семьях воспитывалось около 13,5 миллионов детей. То же самое наблюдается и сегодня. По данным выборочной переписи 1994, 20 процентов российских семей с несовершеннолетними детьми были неполными и 19.6 процента всех детей рождены вне брака. Да и там, где отец физически присутствует, его авторитет в семье и роль в воспитании детей, как правило, значительно ниже, чем роль матери. Отцы обладают преимуществом только в информационной сфере, когда речь идет о политике и спорте.23 В детском саду и в школе главные властные фигуры - опять-таки женщины. В официальных подростковых и юношеских организациях (пионерская организация, комсомол) тон задавали девочки (среди секретарей школьных комсомольских организаций они составляли три четверти). Мальчики и юноши находили отдушину только в неформальных уличных компаниях и группах, где власть и символы были исключительно мужскими. Многие такие группы в России, как и на Западе, подчеркнуто мизогинны. После женитьбы молодому мужчине приходится иметь дело с любящей, заботливой, но часто доминантной женой, которая, как некогда его мама, лучше него самого знает, как планировать семейный бюджет и что нужно для дома, для семьи. А в общественно-политической жизни все контролировалось властной "материнской" заботой КПСС. Этот стиль социализации, несовместимый ни с индивидуальным человеческим достоинством, ни с традиционной моделью маскулинности, вызывал противоречивые психологические реакции. На идеологическом уровне безотцовщина и тоска по мужскому началу способствовали трансформации образа отсутствующего реального отца в характерный для всякого тоталитарного сознания (так было и в нацистской Германии) мифологизированный унитарный образ Вождя, Отца и Учителя. Несколько ниже располагаются идеализированные образы коллективной маскулинности, мужского (особенно воинского) товарищества и дружбы. Принадлежность к коллективному мужскому телу, сочетающая гомосоциальность с неосознанным гомоэротизмом, психологически компенсирует мужчине его слабость и несамостоятельность в качестве отдельного индивидуума: каков бы я ни был сам по себе, в рамках группового "мы, мужики", я силен и непобедим. "Русский мужчина-конь скачет, скачет, его несет, он сам не понимает, куда он скачет, зачем и сколько времени он скачет. Он просто скачет себе и все, он в табуне, у него алиби: все скачут. и он тоже скачет" 24 На бытовом уровне компенсация и гиперкомпенсация "слабой" маскулинности имеет несколько вариантов. В одном случае это идентификация с традиционным образом сильного и агрессивного мужика, утверждающего себя пьянством, драками, жестокостью, членством в агрессивных мужских компаниях, социальным и сексуальным насилием. Во втором случае покорность и покладистость в общественной жизни компенсируется жестокой тиранией дома, в семье, по отношению к жене и детям. В третьем случае социальная пассивность и связанная с нею выученная беспомощность компенсируется бегством от личной ответственности в беззаботный игровой мир вечного мальчишества. Не выучившись в детстве самоуправлению и преодолению трудностей, такие мужчины навсегда отказываются от личной независимости, а вместе с нею - от ответственности, передоверяя социальную ответственность начальству, а семейную - жене. Но при любом раскладе люди испытывают неудовлетворенность. Проблема "феминизации мужчин" и "маскулинизации женщин" появилась на страницах советской массовой прессы, начиная с моих статей в "Литературной газеты", в 1970 г. С тех пор споры не затухали. Женщины патетически вопрошают "Где найти настоящего мужчину?", а мужчины сетуют на исчезновение женской ласки и нежности. Широкий резонанс в обществе вызвала статья известного демографа Б.Ц. Урланиса "Берегите мужчин", в которой автор, опираясь на данные медицинской статистики о повышенной детской смертности, меньшей продолжительности жизни, вредных привычках, алкоголизме, курении, траспортных происшествиях и рискованном поведении мужчин, убедительно показал, что мужчины – не сильный, а скорее слабый пол, требующий особой заботы и внимания. Представления советских людей об маскулинности и фемининности всегда оставались стереотипно-сексистскими. В анкете популярного еженедельника "Неделя" (1976), какие качества наиболее желательны для мужчин и для женщин, единственной общей для обоих полов чертой, вошедшей в пятерку важнейших, оказалась верность. "Ум", занявший в "мужском" наборе первое место, в "женском" идеале стоит где-то в хвосте. Первое место в образе идеальной женщины занимает "женственность", а в мужском идеале за умом следует "мужественность". Характерно, что хотя все советские женщины работали, в наборе идеальных женских качеств нет ни одного, проявляющегося преимущественно в сфере труда.25 Говоря о желательных свойствах женщины, мужчины автоматически представляют себе возлюбленную, жену или мать, но никогда - товарища по работе. Это имеет далеко идущие социально-психологические последствия. Судя по данным проведенного в 1991-92 годах сравнительного исследования, россияне весьма гомосоциальны, уровень взаимпонимания и эмоциональной близости у российских мужчин и женщин ниже, чем у немцев, поляков, венгров и шведов. Максимум понимания, эмоциональной близости и практической помощи у представителей собственного пола находят соответственно 77, 57 и 74 процента опрошенных мужчин. По словам Марины Арутюнян, "создается впечатление, что наши опрошенные "нарисовали" портрет двух в духовном и социальном отношении гомосексуальных (это явная опечатка или терминологическая неточность, речь идет не о гомосексуальности, а о гомосоциальности – И.К.) структур, где люди ориентированы на отношения доверия, понимания, поддержки, уважения, подражания, равно как и открытой осознанной борьбы преимущественно внутри собственного пола; взаимодействие же между полами в значительной мере построено для мужчин на "восхищении", "импульсах" и "эмоциональной поддержке", для женщин отчасти на потребности практической и эмоциональной поддержки со стороны мужчин"26. Крушение советской системы не изменило прежних стереотипов маскулинности 27, но сделало их более артикулированными и разнообразными, Российская массовая культура, будь то реклама, кино или телевидение, является откровенно сексистской. Как замечает Алексей Юрчак, "образы мужчины и женщины в большинстве рекламных роликов на наших телеэкранах не просто созданы разными средствами, но и наделены разными обязанностями, разными устремлениями в жизни, разной социальной силой. Реклама излагает нам простым языком старый патриархальный миф о том, какими должны быть мужчина и женщина. "Настоящий мужчина" предстаёт личностью творческой, профессиональной, знающей, способной принимать решения и одерживать победы в одиночку. Его действия изменяют окружающий мир. Он самодостаточен. "Настоящая женщина", призвана сопровождать "настоящего мужчину", являться дополнительной наградой за его победы. Она предстаёт в рекламе существом ограниченным, зависимым, домашним. Ей не надо быть умной и творческой личностью, а надо иметь пышные блестящие волосы, стройную фигуру, привлекательную походку. А когда благодаря этим качествам мужчина найден, ей надо следить за семейным уютом, стирать, готовить, лечить так, чтобы он оставался доволен. Он - субъект действия, творец, величие которого дополнительно подчёркнуто умением вовремя проинструктировать и поощрить представительницу слабого во всех отношениях пола. Она - объект созерцания, исполнитель, ждущий внимания, указаний и поощрений. Повторяя эти примитивные патриархальные образы бесчисленное множество раз в самых разных вариантах, сегодняшняя российская реклама во многом работает на усиление консервативных гендерных стереотипов, которые в нашей культуре и без того достаточно консервативны"28. Вместе с тем в российских СМИ и в более сложных формах гендерного дискурса настойчиво проводится о мысль о неполноценности и угнетенности российских мужчин, являющихся жертвами стервозных женщин (характерно, что первая передача первого российского "мужского" ток-шоу была посвящена именно женщине-стерве), либо коммунистического деспотизма, либо западной колонизации. Бросается в глаза резкое расхождение мужского и женского дискурса по этим сюжетам, а также возникновение своеобразных российских аналогов западных теорий маскулинности. Воинствующе антифеминистская, сексистская, местами гомофобская, но одновременно ироничная и щемяще самокритичная книга Виктора Ерофеева "Мужчины" - не связанный нормами западной политической корректности российский вариант мифопоэтической маскулинности. "Человек рода он", как определил мужчину Даль, встречает XX1 век м белым флагом капитуляции в руках. Это напоминает размахивание кальсонами. Ликуй, феминистка! На Западе женское движение, приобретя уставные формы идеологии, разрушило половую "империю зла". Прощай, главенствующий статус! Цивилизованный мужчина отступил по всем направлениям... Судьба мужчины в России выглядит иначе, однако не менее травматично. Кто виноват, что русский мужчина рухнул? Советская власть? Да. Но кто виноват, что возникла советская власть? Русский мужчина. Я называю русского мужчину облаком в штанах. Но не в том немом смысле, который имел в виду Маяковский. Мы говорим на языке пустоты. Русский мужчина был, русского мужчины уже-еще нет, русский мужчина снова может быть"29. "Суворовский переход с дикого Востока на дикий Запад огородами, минуя первоисточники цивилизации", означает также смену типов маскулинности. Место созерцательного придурка Иванушки-дурачка занимает "бандит-активист, который не ждет милости от природы", но который, сколотив состояние, сразу же дает своим детям европейское образование. Герой Ерофеева – не примитивный мужик, который принадлежит к низшему сословию, даже если он разъезжает на джипе, а мужик, который встает с карачек и путем обретения индивидуальности начинает превращаться в мужчину. Он меняет пятерню на прическу, броневик на парфюм, мат на английский, партбилет на перстень, коммуналку на вертолет. Но самое трудное для него – сменить "мы" на "я". "Мужчина – это такой мужик, который нашел (мат на английский) his own identity и перевел понятие на русский язык"30 Превращению мужика в мужчину по мере сил способствуют такие мужские журналы, как "Плейбой" и "Мужское здоровье". Откровенно прозападные и издаваемые западными издателями, они ведутся с хорошим чувством юмора и адресованы состоятельным, преимущественно молодым, российским мужчинам, которые уже научились делать деньги и хотят приобщиться к материальным достижениям западной цивилизации. Подразумеваемый адресат этих изданий – преуспевающий бизнесмен или классный специалист, живущий по пушкинской формуле "быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей". Это предполагает двухполюсную маскулинность, сочетающую высокие деловые достижения с бытовым комфортом и успехом у женщин. Для редактора журнала "Медведь" главный признак маскулинности - самодостаточность, а ее носитель - мужчина-профессионал.31 Таким мужчинам нужен не просто секс, а эротика, они хотят быть красивыми, элегантными, хорошо одетыми. Характерный заголовок в одном из номеров Men’s Health (1999, # 5) - "Тело, которого ты достоин" - явно перекликается с адресованной женщинам рекламой известной французской парфюмерной фирмы - "Ведь я этого достойна!" "Мужской" мотив достижения органически переплетается с "фемининной", по старым российским стандартам, заботой о собственной внешности, которая должна производить впечатление как на женщин, так и на потенциальных деловых партнеров. Забавно, что при этом модель и покупатель подчас отождествляются: в одном из номеров журнала молодые российские бизнесмены сами демонстрируют верхнюю одежду с ценниками (до нижнего белья пока не дошло) . Идеологически, по большому счету, журнал сексистский, женщина выступает в нем лишь как партнерша преуспевающего мужчины. Но свое название он вполне оправдывает и поскольку цивилизованный мужчина лучше нецивилизованного, заслуживает положительной оценки. Если "Мужское здоровье" и многочисленные сексуально-эротические издания утверждают буржуазно-либеральные ценности общества потребления, то в таких журналах, как "Махаон" и "Андрей", гегемонная маскулинность имеет здесь отчетливо националистическую и антизападную направленность. В редакционной декларации "Андрея" (1991) подчеркивалось, что "он необходим сегодня, потому что именно мужчины более всего нуждаются в освобождении от стрессовой агрессивности и неудовлетворенности. Их психологическая свобода – залог освобождения общества от довлеющих комплексов искаженной эпохи". Мучительная "мужская травма" ассоциируется не столько с женской эмансипацией, сколько с ослаблением российской государственности. Мужское достоинство и сексуальность рассматриваются как неотделимые от национальной гордости и великодержавности, а русский мужчина предстает в виде существа слабого, окруженного со всех сторон враждебными силами и борющегося с национальной и сексуальной униженностью. Журнал старается компенсировать травму, нанесенную великой нации, лишившейся статуса сверхдержавы. 32 То же самое делает телевизионная и кинопублицистика, особенно в связи с событиями в Югославии и войной в Чечне. На экранах ТВ идут бесконечные западные и не уступающие им по крутизне отечественные боевики, прославляющие мужскую силу, воинские навыки, терпение и решительность. В документальной кинохронике бородатые чеченские боевики перемежаются кадрами разрушенных городов и изображениями небольшого, но решительного Путина, который то грозит мочить боевиков в сортире, то лично управляет военным самолетом. Проправительственный блок "Медведь", возглавляемый двумя генералами и полковником налоговой полиции, чемпионом мира по борьбе, выступал на выборах в Думу под лозунгом "Кто в лесу хозяин?" Агрессивная маскулинность активно насаждается и проигрывается в сфере "силового предпринимательства", субъектами которого являются организованные преступные группировки, частные охранные предприятия и близкие к ним структуры.33 Рекрутируясь из спортсменов, "качков" и бывших уголовников, они переносят в деловую и общественную жизнь понятия и нравы старого гулага, - культ физической силы, пренебрежение к ценности человеческой жизни, готовность к применению насилия и т.д., рассматриваемых как проявления подлинной "мужской жизни". Распространение подобных нравов и ценностей среди подростков угрожает самим устоям цивилизованного бытия и правового общества. Агрессивная маскулинность антизападного и антилиберального толка пронизывает идеологию ультранационалистических политических организаций, таких как "Соколы Жириновского" и особенно Русское Национальное Единство Александра Баркашова. Идея возрождения рус |
|
|
msi_masa частый гость Группа: Участники Сообщений: 15 |
Добавлено: 27-11-2007 21:12 |
|
Господи, молю, дай мне: Мудрости, чтобы понимать мужчину. Любви, чтобы прощать его. Терпения к его сменяющимся настроениям. Потому что, Господи, если я попрошу силы - я просто забью его до смерти! |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 29-11-2007 19:07 |
|
"Знаете, сколько лет меня будут читать, - спросил однажды Чехов у П.А. Бунина, - и сам же ответил: - семь лет. - Что вы! - Ну, семь с четвертью". (Из воспоминаний П.А. Бунина). Шестов утверждал, что подробной биографии Чехова нет и быть не может: в биографиях нам сообщают все, кроме того, что нам хотелось бы знать, и если хочешь узнать, то надо положиться на чеховские произведения и на свою догадку. "Своя" догадка может сослужить неоднозначную службу, в этом-то ее ценность, в этом-то ее уязвимость. Современный этап в изучении Чехова может быть описан с помощью парадокса: Чехов кажется изученным почти полностью (исследования 1970-х гг. В. Лакшина, З. Паперного, Э. Полоцкой, А. Чудакова, Е. Сахаровой, В. Катаева, М. Мурьянова, Л. Долотовой, Б. Зингермана, В. Седегова и др.). Но именно тогда, когда "все сказано и добавить больше нечего", иллюзия "изученности" Чехова рушится. Казалось бы, давно изученные тексты Чехова начинают выстраиваться вдруг в новые парадигмы и обнаруживают новые возможности прочтения. Для человека Востока близок Чехов, наблюдающий вечность (японцы, например, усматривают в этом нечто, похожее на медитацию). Символика чеховских произведений (особенно драматических) вообще выводит его творения из национальных рамок на общечеловеческий уровень, на уровень мировой культуры. Как ни удивительно (ирония ли судьбы?), но центральный символ пьесы - "Вишневый сад" - оказался столь близким и понятным носителям японской культуры. "Я думаю, - пишет Икэда, - это чистое и невинное прошлое, символически запечатленное в белоснежных лепестках вишни, и одновременно это символ смерти". Горная вишня в лучах утреннего солнца благоухает. Матоори Норинага. XVIII в. Асахи Суэсико, автор книги "Мой Чехов" еще в 17 лет написал: Ноябрьская ночь. Антона Чехова читаю. От изумления немею. [1] Чехов становится не непонятным, а вполне пустым, своего рода матрицей, куда каждый подставляет, что хочет. Может быть отсюда - популярность Чехова на Западе, восприятие его как писателя, которого и понимать не нужно, достаточно чувствовать, ибо вся соль тут в сочетании ностальгических испарений с легкой дымкой абсурдности и многозначительностью мечтаний. Западный человек воспринимает Чехова как нигилистическое отрицание всего: повседневности, личности, судьбы. В этом для него и заключается это необъяснимое, неуловимое, но такое притягательное, манящее понятие как "русскость", "русская душа", которую и потемками-то не назовешь (потемки - антиномия свету, а феномен русской души - понятие онтологически необъяснимое). XX век по праву можно назвать веком абсурда, веком так называемого "экзистенциального вакуума" (по В. Франклу), когда огромное число людей ощущают бессмысленность той жизни, которую им приходится вести, невозможность найти в ней позитивный смысл из-за разрушения старых ценностей и традиций, дискредитации "новых" и отсутствия культуры мировоззренческой рефлексии, позволяющей прийти к уникальному смыслу своим, неповторимым путем. Думается, что причина "популярности" писателя для человечества, стоящего на пороге третьего тысячелетия, состоит в необычайной созвучности тех вопросов, которые решают герои его произведений, нынешнему положению человека. Чувство безысходности, одиночества, непонимания себя и других, разочарования и равнодушия, ощущения своей зависимости и слабости, внутренней дисгармонии тревожит героев Чехова. Попытки найти себя, возродиться, ответить на главный свой вопрос - вопрос о значимости собственной личности, жизни, судьбы для себя самого, для других, для Бога... Попытки найти свое счастье и поиски путей одоления горя, страстное желание быть нужным, полезным и трудность в обретении той сферы деятельности, которая дала бы возможность человеку самореализоваться - вот часть тех жизненных проблем, которые приковывают внимание читателя, так как сильно напоминают его собственное внутреннее ощущение себя наедине со временем, наедине с собой. Одна из самых важных тем, тема, имеющая большую историю в литературе, это тема любви, тема взаимоотношений мужчины и женщины. Любовь - слишком сложное, неоднородное, многоликое явление, чувство, феномен человеческой души. Тема любви - тема вечная. Каждая эпоха, каждый человек вырабатывает свою концепцию любви, свое понимание этого чувства. В мифе и древнейших системах философии любовь понималась как "эрос", космическая сила, подобная силе тяготения. Для греческой мысли характерно учение о Любви как строящей, сплачивающей энергии мироздания (орфики, Эмпедокл). Аристотель видит в движении небесных сфер проявление некоей вселенской любви к духовному принципу движения. Другая линия античной философии любви начинается с Платона, истолковавшего в диалоге "Пир" чувственную влюбленность и эстетический восторг перед прекрасным телом как низшие ступени лестницы духовного восхождения, ведущей к идеальной любви, предмет которой - абсолютное благо и абсолютная красота. В эпоху Великой французской революции любовь была понята как порыв, разрушающий рамки сословных преград и социальных условностей. Представители немецкого классического идеализма (Фихте, Шеллинг, Гегель) толковали любовь как метафизический принцип единства, снимающий полагаемую рассудком расколотость на субъект и объект. На рубеже XIX - XX вв. Фрейд предпринял систематическое перевертывание платоновской доктрины любви. Если для Платона одухотворение "эроса" означало приход к его собственной сущности и цели, то для Фрейда это лишь обман, подлежащее развенчанию переряживание "подавляемого" полового влечения ("либидо"). Представители религиозного экзистенциализма (Бубер, Марсель) говорят о любви как о спонтанном прорыве из мира "ОНО" в мир "ТЫ", от безличного "ИМЕТЬ" к личностному "БЫТЬ" [2]. Как видим, интерес к теме любви был велик в любую эпоху. Особенно обостряется он во времена кризисов, когда чувство незащищенности, уязвимости, никчемности собственного "Я" является доминирующим для большинства людей. У Чехова свое понимание и свое отношение к этому вопросу. В записной книжке он писал: "Любовь - это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь" [3]. Целью нашей работы является осмысление категории любви в художественном мире Чехова; описание и анализ "разновидностей" переживания этого чувства героями произведений Чехова; формулирование концепции любви как смысла жизни, как формулы счастья, как цели земного существования и т.п. Для реализации этой цели в работе поставлены следующие задачи: проанализировать произведения писателя, в которых решается тема любви; дать возможную интерпретацию им, учитывая биографические сведения из жизни А.П. Чехова; очертить круг специфических особенностей категории любви в художественной концепции Чехова; обнаружить и описать влияние таких категорий как "время человеческого бытия" и "абсурдистская внутренняя позиция героя" на характер переживания любви. 1. АБСУРДНОСТЬ БЫТИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ЧЕХОВА. - Что такое теория относительности ? - Точно определить затрудняюсь, но ехать надо. Чтоб Кафку сделать былью. 1.1. ЧЕХОВ И КУЛЬТУРА АБСУРДА. Культура абсурда - это гримаса культуры ХХ века. А может быть ее улыбка ? Такая же непостижимая и притягательная, как улыбка Джоконды ? "Трагедия без грана трагического есть трагедия абсолютная", по мысли современного философа Дмитрия Галковского ("Бесконечный тупик"). Значит, полное отсутствие смысла есть, следуя логике вышесказанного, смысл, значение (а точнее значимость), возведенное в абсолют, переведенное в сферу идеальных понятий, иными словами - Истина. Быть может, абсурд, как никакое иное восприятие жизни, стоит так близко к самой действительности, как нечто этой действительностью порожденное или значимой частью ее являющееся. Абсурд (лат. absurdus нелепый) - бессмыслица, нелепость. Это мир наоборот, мир наизнанку, антимир. Истоки абсурда лежат в карнавальной культуре средневековья, одной из функций которой являлось узаконенное нарушение запрета. Европейский карнавал давал возможность человеку реализовать идею двумирности, то есть совершить акт перевертывания, оборотничества. Верх и низ менялись местами. Иными словами, признавалась иррациональность мира, подвергалась сомнению, пусть на время, логичность и упорядоченность человеческого бытия. В основе мира абсурда лежит сознательная игра с логикой, здравым смыслом и, что на наш взгляд особенно важно, стереотипом понятий, представлений, поведения. Экспансия так называемого абсолютного нонсенса. "Театр абсурда - это искусство, впитавшее в себя экзистенциалистские и постэкзистенциалистские философские концепции, которые, в основном, рассматривают попытки человека сделать осмысленным его бессмысленное положение в бессмысленном мире, бессмысленном потому, что моральные, религиозные, политические и социальные структуры, которые построил человек, дабы "предаваться иллюзиям", рухнули." Это определение принадлежит Олби, он дал его в статье "Какой же театр действительно абсурден?" [4]. Дземидок Богдан в своей работе "О комическом" понятие абсурда связывает с таким видом комического, как юмор. Он наблюдает появление в искусстве (в частности в литературе) так называемого абсурдистского юмора, полагает, что "именно эта категория комического переживает период расцвета и представляет в литературе ХХ века своеобразное и характерное явление" [5]. Автор этой книги выделяет следующие черты абсурдистского юмора: а) интеллектуализм и философичность, отказ от моральной проблематики ради исследования механизмов мышления и ревизии привычных представлений о мире; б) склонность к экзистенциальной проблематике и к макабрическим мотивам; в) агрессивность, подчас даже нигилизм в отношении традиций, привычных концепций и здравого смысла; г) демонстративность и те провакационные пробы, которым он подвергает интеллект читателя. Обратимся еще к одному определению феномена абсурда, данное Любимовой Т.Б. Говоря о пьесе Ж. Кокто "Новобрачные", она пишет: "Абсурд - отсутствие единого прямого, схватываемого разумом смысла. Вместо действия - то есть линейных, следующих друг за другом событий, вместо "геометрии драмы" - сверкания, блики, отблески или, напротив, затемнения, провалы, перерывы, то есть как бы кривые и разбитые зеркала загадок и шарад. Отсюда и фарсовость, клоунада, "пресонажность", "кукольность", марионеточность - излюбленные качества искусства абсурда" [6]. Итак, абсурд в эстетическом смысле представляет собой художественный прием, способ осмысления художником окружающей его действительности и человека как главного субъекта и объекта новых отношений между вещами. Философское обоснование абсурда принадлежит представителю экзистенциализма Альберту Камю. Для Камю абсурдность - одно из фундаментальных чувств, которое рождается из скуки и выводит индивида из рутины повседневной жизни. Мир сам по себе не абсурден - он просто неразумен (как всякая внечеловеческая реальность, не совпадающая с нашими желаниями). Существуют два способа противостоять этой неразумности: рационализм (отвергнутый уже в XVIII веке) и "антирационализм", предполагающий поиски новых, неожиданных связей между вещами и понятиями, - поиски, которые в принципе не могут быть мотивированы законами формальной логики. В этом отношении абсурд становится неотъемлемой частью здравого смысла, оформившегося после крушения рационализма. "Иррациональное, - пишет Камю, - в представлении экзистенциалистов есть разум в раздоре с самим собой. Он освобождает от раздора, сам себя отрицая. Абсурд - это ясный разум, осознающий свои пределы" [7]. Поэтому для Камю абсурдное произведение это "смиренное согласие быть сознанием, творящим лишь видимость, набрасывающим покрывало образа на то, что лишено разумного основания. Будь мир прозрачен, не было бы искусства" [8]. Таким образом, абсурд не так нелеп и бессмысленен, как может показаться на первый взгляд. Он являет собой доведенный до логического предела тот алогизм, ту парадоксальность (кстати, представители современной абсурдистской драматургии предпочитают называть свое детище не "театром абсурда", а "театром парадокса"), ту иррациональность, которые заложены в самой жизни. Об этом хорошо сказал Рэй Брэдбери: "Само ее (то есть Вселенной) существование является фактом нелогичным и сверхъестественным! Она невозможна, но она есть" [9]. И даже если мы предположим, что мир абсурда это нечто искусственное, стоящее вне мира реального, то где же основания пренебрегать этим миром, ведь "не мы выдумали нормальную жизнь, не мы выдумали ненормальную жизнь. Почему же только первую считают настоящей действительностью?" [10]. Значение Чехова на пути к культуре ХХ века в том, что он уловил симптомы этой "непрозрачности", необъясненности. И, внешне оставаясь в "рациональных" рамках, вольно или невольно находил эти основы "неразумности", которые стали предметом образного отражения в литературе последующих эпох. Влиянию Чехова на культуру абсурда, рассматриванию его творчества в контексте поэтики абсурда посвящено немного литературы (причем только западной критики). Советская литературная критика относилась к подобной интерпретации Чехова с явным скептицизмом и недоверием, что представляется нам определенной потерей в восприятии и осмыслении художественного мира писателя. Лишь в последнее время стали появляться работы, в которых по-новому выстраивается образная система Чехова, стилистика его произведений, говорится об особом методе художника. В этих работах признается близость Чехова абсурдистским произведениям ХХ века, и признается его "первооткрывательство" наряду с Гоголем такой формы, такого творческого приема, который является средством признания Времени, Смерти, Бога - "сверхразумных бессмыслиц" (И. Вишневецкий) [11], не переводимых на язык логических понятий путем обнаружения их двойной (по меньше мере) сущности, способной выступать в виде реального, привычного, земного типа отношений между вещами, с одной стороны, и вступающей в отношения, не поддающиеся разумному объяснению, но оказывающие не менее (а может быть и более) сильное и важное влияние на внутреннюю структуру художественного произведения и отдельные ее элементы. Западная критика считает Чехова родоначальником "театра абсурда". Так, в книге американской исследовательницы и писательницы Джойс Кэрол Оутс "На грани невозможного: трагические формы в литературе" есть глава, в которой рассматривается влияние драматургии Чехова на европейский театр: "Многое из того, что кажется ошеломляющим и авангардистским в последние театральные сезоны, было предвосхищено теорией и практикой Чехова. Для примера стоит лишь вспомнить главные проблемы "Вишневого сада" и "Трех сестер" - безнадежность, комическую патетику, разрыв с традициями, тщетную тоску по Москве, - и мы увидим, насколько близок Чехов пьесе "В ожидании Годо" и другим работам Беккета" [12]. Родственность драматургической техники Чехова и техники современных драматургов "театра абсурда", по мнению Оутс, в "стремлении преодолеть различного рода драматические и лингвистические условности, и в изображении абсурдных инцидентов, и в обрисовке некоторых поэтических образов" [13]. Она определяет художественный метод Чехова как "мелочный символический натурализм, пытающийся описывать все необъяснимое, нелепое и парадоксальное", доказывает гипотезу о Чехове как духовном предтече Ионеско и Беккета. Задолго до них Чехов использовал определенные драматургические приемы, которые впоследствии станут необычайно популярны в "театре абсурда". Оутс имеет ввиду необъяснимые с точки зрения привычной логики реплики героев, типа "Бальзак женился в Бердичеве", "А должно быть, в этой самой Африке теперь жарища", "та-ра-ра-бумбия" Чубутыкина и т.п.; поступки героев, лишенные здравого смысла, например, то, что Шарлотта в "Вишневом саде" поедает огурцы, которые она носит в карманах, демонстрирует эксцентричные фокусы. Американская исследовательница обращает внимание на такую особенность чеховских пьес, как отсутствие так называемой динамики действия, сюжетности. Оутс характеризует ее как "замену действия разговорами". "Ионеско и Беккет, - пишет она, учились у Чехова заменять действие разговорами" [14]. "Демонстрация бессилия воли" в пьесах русского писателя дает основание, по логике Оутс, считать их "абсурдистскими", главная цель Чехова - выражение абсурдности бытия. Автор книги "На грани невозможного" пишет также о том, что для Чехова, как для Ионеско и Беккета, "человеческое бытие кажется иллюзорным, обманчивая видимость предпочитается реальности. Человек охотно обманывает себя пустыми разговорами и воображаемым представлением о жизни... Однако обманчивые представления в конечном счете оказываются не лучше действительности, и этот самообман не приносит человеку добра..." [15]. Оутс выдвигает тезис: "Видение человека в "театре абсурда" и у Чехова одинаково, если не идентично". Обратимся к эссе английского писателя и драматурга Джона Бойнтона Пристли "Антон Чехов", написанному для серии "Интернациональные профили". Пристли пишет об "особом чеховском методе": "По существу, то, что он делает, - это переворачивание традиционной "хорошо сделанной" пьесы вверх ногами, выворачивание ее наизнанку. Это почти как если бы он прочитал какие-то руководства по написанию пьес, а потом сделал бы все обратно тому, что в них рекомендовалось" [16]. Как видим, автор эссе не определяет творческую манеру, стиль Чехова как относящийся к культуре абсурда, но его описание так или иначе отражает черты этой непривычной связи между вещами в художественном мире Чехова, что очень характерно для произведений абсурда. Роналд Хингли, профессор Оксфордского университета в своей книге "Чехов. Критико-биографический очерк" приписывает писателю необычайный "дар ускользания", видя в нем человека, в котором честность сочеталась с "тонким лукавством". Он считает, что Чехову была свойствена своеобразная эмоциональная недостаточность в отношениях с окружающими его людьми. Критик подходит к Чехову как к мастеру слова, анализировавшему "вечные", "экзистенциальные" вопросы (отчуждение людей друг от друга, отсутствие взаимопонимания между ними, бессмысленность, абсурдность бытия). В духе экзистенциальных проблем рассматривает творчество Чехова преподаватель русской литературы Лондонского университета Доналд Рейфилд, автор работы "Чехов. Эволюция мастерства". Он видит основу мировосприятия Чехова в постоянном "ощущении смерти": оно стимулировало его "жизненную активность" и служило источником "творческой печали" и "личной сдержанности" В мировосприятии писателя критик выделяет два основных начала - иронию и преклонение перед сильными личностями. Интересно, что чеховскую иронию Рейфилд толкует как "циничное отречение" и "смирение перед судьбой, свойственное греческой трагедии", близкой С. Беккету. В описываемой книге комментируется такая важная проблема экзистенциальной философии и, соответственно, одна из основных проблем, решаемых в искусстве абсурда, как проблема времени. Автор ее находит у Чехова ощущение временности, конечности человеческой жизни, являющейся аномалией в "мертвом космосе", где нет высшего, "божественного" начала. В этом бессмысленном мире человек должен сам преодолевать абсурдность космоса, отсюда - восхищение писателя сильными личностями. |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 29-11-2007 22:49 |
|
Рейфилд уподобляет мир Чехова некоему "кафкианскому миру". По его мнению, почти все чеховские герои живут в "замкнутом пространстве", без воздуха и страдают клаустрофобией, им некуда деться друг от друга, им некуда уйти [17]. 1.2. ТЕМА ВЛАСТИ ВЕЩЕЙ НАД ЧЕЛОВЕКОМ. "Описать вот этот, например, стол..., - говорил Чехов, - гораздо труднее, чем написать историю европейской культуры". Во многих произведениях Чехова в центре сюжета стоит не человек, а вещь. Мир вещей составляет очень важный уровень в художественной структуре писательского миропонимания. Возникает ощущение, что предметный мир более важен, чем мир человека, мир людей. Вещи в произведениях мало того что самостоятельно живут своею собственною жизнью, но они часто имеют большую власть над жизнью и судьбой героев. Записные книжки Чехова хранят множество "законсервированных" сюжетов, где центр фабульности составляют реалии мира вещей. "Человек собрал миллион марок. Лег на них и застрелился". "Человек, у которого колесом вагона отрезало ногу, беспокоился, что в сапоге, надетом на отрезанную ногу, 21 рубль"[18]. "Человек в футляре, в калошах, зонт в чехле, часы в футляре, нож в чехле. Когда лежал в гробу, то, казалось, улыбался: нашел свой идеал" [19]. "Х., бывший подрядчик, на все смотрит с точки зрения ремонта и жену себе ищет здоровую, чтобы не потребовалось ремонта; N. прельщает его тем, что при всей своей громаде идет тихо, плавно, не громыхает; все, значит, в ней на месте, весь механизм в исправности, все привинчено" [20]. Гайка, улика злоумышления, канделябр, словно обреченный быть вечным подарком, пепельницы, бутылки, зонтики, футляры, альбомы, ордена, лотерейные билеты - все это живет какой-то нарушенной, непредсказуемой жизнью, не теряя при этом своего чисто предметного значения. Взгляд писателя позволяет открыть нечто новое во взаимоотношениях человека и вещи. Гаев в "Вишневом саде" разговаривает со шкафом, Астров прощается со столом. В какие-то важные моменты своей жизни, в состоянии тревоги, тоски, горя герои обращаются к окружающим их предметам. То есть идея так называемой некоммуникативности, которая по мнению английских критиков, лежит в основе идейного замысла произведений писателя, достигает своего апогея. Человек настолько одинок и недоверчив к теплоте, возможности понимания его другим человеком, он настолько замкнут в своем собственном мире, что для него реальней и "полезней" вступить в общение с неживым объектом. Это, надо признаться, и гораздо легче для самого героя, так как не предполагает восприятие обратной стороны и снимает ответственность за любой совершенный или сказанный промах. Многие герои Чехова очень дорожат этим обстоятельством (Камышев в "Драме на охоте", Лаевский в "Дуэли", Орлов в "Рассказе неизвестного человека", Узелков в "Старости" и др.). Предметы переходят из рук в руки, знаменуют жизненные победы и поражения, могут сплотить людей или, напротив, выявить разверзшуюся пропасть между ними. То, что не дано человеку, они берут на себя: шкаф служит "идеалом добра и справедливости", обычная гитара видится Епиходову мандолиной. В "Лешем" читаем: "каков Жорж-то, а? Взял, ни с того, ни с сего, и чичикнул себе в лоб! И нашел тоже из чего : из Лефоше! Не мог взять Смита и Вессона!" (Х, 417). Часто человека определяет не какая-то яркая, заметная черта его личности, внешности (например, глаза, голос, походка, жесты, "особые приметы": родинка, шрам и т.д.), а его вещи. Чехов придавал этому особое значение. Во время репетиции пьесы "Вишневый сад" он говорил актеру, игравшему Лопахина: "Послушайте, - он не кричит, - у него же желтые башмаки". Замечает Станиславскому, игравшему Тригорина: "Вы прекрасно играете..., но только не мое лицо. Я этого не писал". "- В чем дело? - спрашивал Станиславский. - У него же клетчатые панталоны и сигару курит вот так" [21]. Желтые башмаки и клетчатые панталоны в поэтике Чехова могут рассказать о своем хозяине гораздо больше, чем все его "родовые" качества. В. Шкловский обращал внимание на то обстоятельство, что вещь, предмет или, обобщенно говоря, знак, может, с одной стороны, выделять человека из всех других, с другой стороны, показывать его неразличимость среди остальных людей. Рассказ "Дама с собачкой", где "собачка упомянута в заголовке. Но она не определяет даму, только усиливает обыкновенность дамы; она - знак того, что для обозначения бытия обыкновенного человека в мире обыденного нужна примета" [22]. Таким образом, мы видим, что в художественном мире Чехова жизненная энергия, которой должны обладать люди, переходит на предметы (в широком понимании этого слова), то есть то, что изначально является носителем духовности (человек), обесценивается, лишается воли, подчиняется, зависит от бездушных реалий предметного мира. Вещи же, наоборот, словно какие-то мистические существа, напитавшись энергией людей, сделав их слабыми и беспомощными, живут своей, не свойственной им жизнью. Более того, они преследуют человека, словно выталкивая его в новое, некогда любимое или неведомое пространство. Так, например, героиню рассказа "Невеста" Надю Шумину преследует картина в золотой раме: "нагая дама и около нее лиловая ваза с отбитой ручкой" (IX, 401), как бы символизируя собой нечто застывшее, почти мертвое вещное пространство, которое Надя решила покинуть. То есть перед нами процесс некоего перевертывания привычного взгляда на мир. Человек и вещь поменялись местами. Этот мотив станет важнейшим для культуры XX века. Думается, целесообразно определить такое явление, как имеющее непосредственное отношение к поэтике абсурда. Чехов продолжает заявленную Бальзаком тему накопительства. Причем для русского классика тема денежного обогащения не представляется важной. Его вовсе не интересует денежная ценность вещей, которыми себя окружают герои. Напротив, чем бесполезнее, ненужнее вещь, тем большего внимания она заслуживает. Тема "лишнего человека" плавно переходит в тему "лишней вещи". Обратимся к рассказу "Коллекция", герой которого, Миша Ковров, коллекционирует, по мнению его приятеля, "сор какой-то". Но для героя это вовсе не сор, это дело всей его жизни. Он собирает всякие тряпочки, веревочки, гвоздики, найденные им когда-то в хлебе, бисквите, щах, расстегаях. Обгоревшая спичка, ноготь, засушенный таракан, крысиный хвостик, килька, клоп - чем нелепее и бессмысленнее экспонат, тем больше гордости он вызывает у "коллекционера". Ничтожное становится предметом чуть ли не какого-то культового поклонения. Жизнь, в которой нераздельно сосуществует высокое и низкое, словно обнаружила в сознании героя какое-то сильно искаженное отражение, как отражение в кривом зеркале, когда между предметом и его проекцией на зеркальную поверхность не существует даже далекого подобия адекватности. Не парадокс ли играет с героями, заставляя их переворачивать все с ног на голову? Особенно это касается героев пьес Чехова, для которых "обладание ведет к потере чего-то более важного, чем достигнутое" [23]. Исследовательница замечает, что соотношение: собрал марки - застрелился, упустили имение - "повеселели даже", не собрались в Москву - "будем жить!" - это типично чеховская ситуация. То есть для героев важно не то, к чему прилагаешь усилия. На самом деле ценна неудача, неуспех, с точки зрения внешнего облика ситуации. То, что само собой, без личного участия - по-настоящему значимо для человека произведений Чехова. Опять насмешка над здравым смыслом, над житейской логикой бытия. Процесс одушевления вещи имеет и обратную сторону - овеществление человека, превращение его в живой механизм. Иногда даже части тела человека могут как бы отделиться от него и действовать или испытывать на себе действие, словно какие-то посторонние предметы. "Волостной старшина и волостной писарь до такой степени пропитались неправдой, что самая кожа на лице у них была мошенническая" ("В овраге", IX, 345). "...лицо Пимфова раскисает еще больше; вот-вот растает от жары и потечет вниз за жилетку" ("Мыслитель", III, 79). Автоматизм поведения, который породили лень человека и стереотипность его поведенческих реакций, изображены в образах Старцева Дмитрия Ионыча ("Ионыч"), Николая Иваныча Буркина ("Крыжовник"), профессора Николая Степановича ("Скучная история"), Анны Михайловны Лебедевой ("Скука жизни") и многих-многих других. Это галерея людей, личность которых подверглась распаду. Человек, уподобившись вещи, предмету, живому механизму, погибает (смерть может носить как характер умерщвления духа, так и характер физической гибели героя). 1.3. ТЕМА СМЕРТИ. Перед нами встает еще одна "вечная" тема экзистенциализма - тема смерти. И.Н. Сухих отмечает, что у Чехова написано около сорока рассказов, где "мотив смерти является доминирующим (темой) или фабульно существенным" [24]. Всего рассказов, где смерть так или иначе присутствует, упоминается, более шестидесяти. Условно можно разделить все рассказы на три группы. К первой отнести те, где смерть является комической развязкой фабулы. (Определенная "оксюморонность", сочетание несочетаемого, лежит в основе идеи о том, что самое трагичное, что может быть в жизни, - смерть - включено в общий юмористический контекст произведения.) К этой группе рассказов можно отнести "Смерть чиновника", "Заказ", "О бренности", "Женское счастье", "Драму" и др. Смерть изображается либо условно пародийно, либо гротескно, либо эмоционально нейтрально, но обязательно включена в комический контекст. В других рассказах она привычно страшна: "Враги", "Драма на охоте", "Володя", "Горе", "В сарае", "В овраге", "Тоска" и др. Но есть такие рассказы Чехова, "где противоположные члены антиномии сходятся в рамках единого сюжета" [25]. Сухих называет эти рассказы "самыми чеховскими". Сюда можно отнести такие рассказы, как "Актерская гибель", "Скорая помощь", "Учитель", "Скука жизни" и др. "Самое чеховское" оказывается очень близким к абсурдному. Камю так описывает чувства и мысли человека относительно смерти: "О смерти все уже сказано, и приличия требуют сохранять здесь патетический тон. Но что удивительно: все живут так, словно "ничего не знают". Дело в том, что у нас нет опыта смерти. У нас есть опыт смерти других, но это всего лишь суррогат, он поверхностен и не слишком нас убеждает... В мертвенном свете рока становится очевидной бесполезность любых усилий" [26]. Жизнь - смерть - забвение. Эта триада составляет самый острый и больной вопрос в философии экзистенциализма. Чехов смешивает признание трагичности смерти и понимание ее неизбежности, случайности, а потому, быть может, и бессмысленности горечи относительно ее прихода. Иногда в произведениях Чехова можно наблюдать, как соперничают, а возможно, просто сосуществуют игра и смерть, значение и бессмыслица. Балансирование на грани и постоянная опасность распасться, разбиться, исчезнуть. Вспомним финальные фразы рассказов: "Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и ... помер" ("Смерть чиновника"), "... он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот ... Но тут его хватил апоплексический удар" ("О бренности"), "... схватил со стола тяжелое пресс-папье и, не помня себя, со всего размаху ударил им по голове Мурашкиной... Присяжные оправдали его" ("Драма"). 1.4. МОТИВ "НАКАЗАНИЯ" ЧЕЛОВЕКА ВРЕМЕНЕМ. Для русской литературы характерен огромный интерес к двум вопросам: "в чем смысл жизни?" и "что такое счастье?". Чехов, на первый взгляд, стоит как бы в стороне от этих глобальных проблем. Его герои, безусловно, заняты поиском смысла жизни, они стремятся обрести счастье. Но все это словно отодвинуто на второй план. Для чеховских героев очень остро стоит проблема времени, переживания его скоротечности, конфликта между прошлым и будущим. Надо заметить, что тема времени является своеобразным "архетипом" для западной и русской литературы. Для человека европейского сознания, способа мышления и восприятия время представляется некоей длительностью, протяженностью. Жизнь человека поэтому ассоциируется с дорогой, которую ему надо пройти. Отсюда - тема дороги, пути, странствия, путешествия - излюбленная тема западноевропейской литературы, специфическим образом (мотив восхождения, нравственного развития героя) она представлена и в русской литературе. В XX веке как никогда больше обострилась так называемая проблема времени, проблема давняя, появившаяся в момент изобретения человечеством механизма для измерения времени - механических часов, которое имело следующие последствия: с распространением часов время впервые вытянулось в прямую линию, идущую из прошлого в будущее через точку настоящего; само настоящее сделалось скоропреходящим, неуловимым; произошло отчуждение человека от времени (по часам стали "узнавать" время) и времени от его содержания, что создало возможность осознать время в качестве чистой категориальной формы, длительности, то есть абстрактного понимания времени. Произошло распространение идеи времени на реальность, отождествление идеи и реальности, в чем по мнению Т.Д. Иобидзе, и определяется "проблема времени" [27]. XX век характеризуется ускорением темпов жизни. Научные открытия и технический прогресс сделали возможным увеличить потребление каждым человеком такого вида материи, как информация, в сотни и тысячи раз, что повлекло за собой несоответствие между развитием эмоциональной культуры и культуры рацио. Духовный мир человека ХХ столетия инфантилен и не развит в той степени, в какой он был развит, например, у людей прошлого века. ХХ век распространил представление о человеческом существовании как об "утраченном времени". Раз и навсегда принятый распорядок жизни, который больше напоминает работу часового механизма, чем бытие мыслящего и чувствующего существа, приводит человека к чувству абсурдности, опустошенности, одиночества, к размышлению о том, стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить. "Подъем, трамвай, четыре часа в конторе или на заводе, обед, трамвай, четыре часа работы, ужин, сон; понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, все в том же ритме - вот путь, по которому легко идти день за днем. Но однажды встает вопрос "зачем?"... Мы живем будущим: "завтра", "позже", "когда у тебя будет положение", "с возрастом ты поймешь". Восхитительна эта непоследовательность - ведь в конце концов наступает смерть. ... Он (человек) принадлежит времени и с ужасом осознает, что время - его злейший враг. Он мечтал о завтрашнем дне, а теперь знает, что от него следовало бы отречься. Этот бунт плоти и есть абсурд" [28]. В этих условиях внимание к творчеству и фигуре "самого загадочного", "таинственного" писателя (А. Суконик) [29] (загадочность которого состоит в том, что даже вопрос о ней не ставится - что загадочно само по себе (А. Суконик) [30]) - Антона Павловича Чехова - заметно возрастает. В произведениях Чехова, особенно в его пьесах, герои постоянно сталкиваются с особенностью времени приносить человеку потери. Они понимают сами и заставляют почувствовать нас, что время обмануло их. Они доверяли времени, надеялись на него, забывая, что нет ничего изменчивее и непостояннее, чем эта "всеобщая объективная форма существования материи" [31]. Доказательством актуальности, остроты переживания времени человеком может послужить пьеса "Вишневый сад". Джон Бойнтон Пристли в своем эссе "Антон Чехов" пишет, что "она о времени, о переменах, о безрассудстве, и сожалениях, и ускользающем счастье, и надежде на будущее" [32]. В этой пьесе Прошлое, Настоящее и Будущее будто собрались в одном месте, в одно время и застали человека в неспособности абстрагироваться от суетного, внешнего, которое поглотило глубину их личности, разрушило ее цельность. Героев пьесы, с точки зрения предпочтения ими прошлого, настоящего или будущего, можно условно разделить на три группы. К представителям "прошлого" относятся Раневская Любовь Андреевна, Гаев Леонид Андреевич, Шарлотта, Фирс. Все эти герои испытывают чувство ностальгии по прошлому, оно для них очень важно. Для Раневской оно настолько любо и дорого, что свое возвращение из Парижа домой она воспринимает как перемещение во времени, как возвращение в свое детство. "Я тут спала, когда была маленькой... (Плачет.) И теперь я как маленькая..." (Х, 310). Но прошлое богато еще и своими испытаниями, горестями, оно как бы держит Раневскую, не давая ей душевного спокойствия, отбирая у нее силы жить дальше. "Если бы снять с груди и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!" (Х, 319). Вероятно, прошлое берет на себя роль совести, которая не дает человеку забыть его проступки, грехи. "Уж очень много мы грешили" (Х, 328), - замечает Раневская себе самой. Словно отвечая мыслям Любови Андреевны, пытается донести свое понимание жизни и предлагает свой выход из тупика Петя Трофимов, разговаривая с Аней: "Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом" (Х, 334). Вишневый сад для Раневской символизирует ее светлое, чистое прошлое, которое ценно тем, что дарит надежду. Поэтому она хочет как бы слиться с садом, стать его частью. Она говорит, что "без вишневого сада я не понимаю своей жизни, и если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом..." (Х, 340). То есть в принципе эта героиня готова пожертвовать своим будущим ради прошлого, остаться в прошлом. Ее брат, Гаев Леонид Андреевич, живет воспоминаниями и только ими. Речь этого героя, изобилующая бильярдными терминами, восторженными интонациями, патетикой, "высоким штилем", обнаруживает отсутствие у Гаева ощущения реальности. Он не живет в настоящем, возможно, вообще не способен жить в настоящем, которое постоянно меняется и заставляет меняться человека. Гаеву ближе нечто застывшее и неизменное, этим, видимо, объясняется его симпатия к книжному шкафу. "Шкап сделан ровно сто лет тому назад. Каково? А? Можно было бы юбилей отпраздновать. Предмет неодушевленный, а все-таки, как-никак, книжный шкаф" (Х, 316). Следующее патетическое обращение к этому "предмету неодушевленному" можно рассматривать как дешевое актерство, которое, кстати, разоблачает Гаева, демонстрируя его презрение к нравственным основам бытия. "Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая (сквозь слезы) в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания" (Х, 316 - 317). Большой интерес и неоднозначное понимание вызывает Шарлотта. Ей ориентироваться во времени очень трудно, так как прошлое для нее практически неизвестно: "У меня нет настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая... Я выросла, потом пошла в гувернантки. А откуда я и кто я - не знаю... Ничего не знаю" (Х, 323 - 324). В настоящем она чувствует себя одиноко: "Все одна, одна, никого у меня нет и... и кто я, зачем я, неизвестно..." (Х, 324), поэтому прошлое оказывается важным, каким бы оно ни было, а для Шарлотты оно, по сути дела, представляет некую пустоту, которую в своих фантазиях можно заполнять чем угодно, примерно так же, как с помощью нехитрых манипуляций с колодой карт или с пледом можно творить маленький мир иллюзии чуда. |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 29-11-2007 22:53 |
|
Самым бережным хранителем старины является в пьесе "Вишневый сад", безусловно, Фирс. Он чуть младше "книжного шкапа". Но относятся к нему, как к еще более "неодушевленному предмету", чем шкаф. Со шкафом поздоровались и попрощались, с Фирсом только поздоровались. Про себя он говорит: "Живу давно". Фирс продолжает жить прошлым, когда "на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы" (Х, 324), он принимает каждый день сургуч, как барин покойный, и считает, что в этом причина его долголетия. На самом деле Фирс (один-единственный из этой группы) чист перед своим прошлым. Оно живет в нем в любви и ладу с его внутренним миром, в котором все на своих местах. Этой гармонии явно не хватает никому в этой пьесе, поэтому так враждебно-раздраженно реагируют ее герои на проявления заботы Фирса по отношению к ним. "Опять не те брючки надели. И что мне с вами делать!" (Х, 322) "Я уйду спать, а без меня тут кто подаст, кто распорядится? Один на весь дом" (Х, 342 - 343). Если Раневская идентифицирует себя с вишневым садом, то Фирса все считают уже необходимой "вещью" в этом доме. Прошлое овеществило человека. Слова Яши, представителя "будущего поколения": "Надоел ты, дед. (зевает). Хоть бы ты поскорее подох" (Х, 342) - скорее всего, выражают конфликт между прошлым и будущим, неприятие, отрицание прошлого будущим. Кого же в этой пьесе можно отнести к "представителям будущего"? Безусловными поклонниками его являются Петя Трофимов и Аня - "молодое поколение". Для этих героев восприятие жизни отличается наличием так называемого "футурологического оптимизма". Если Фирс предчувствует горе ("Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь" (Х, 332), Раневская устала от времени ждать счастливых минут ("Вы смело смотрите вперед, и не потому ли, что не видите и не ждете ничего страшного, так как жизнь скрыта от ваших молодых глаз?" (Х, 340), то Петя Трофимов смотрит на все происходящее с завидной долей хладнокровия ("Продано ли сегодня имение, или не продано - не все ли равно?... нет поворота назад, заросла дорожка... Не надо обманывать себя, надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза" (Х, 339).). Он уверен в будущем, как в самом себе: "я силен и горд". И если "человечество идет к высшей правде, к высшему счастью...", то Петя - в первых рядах. Он обязуется дойти или указать путь другим, как дойти. Знаменательно, что после этих слов следует ремарка: "Слышно, как вдали стучат топором по дереву". Итак, что же перед нами? Мечты о будущем под стук топора? Думается, что в этом - голос самого Чехова, который не очень-то доверял высоким речам ("Громкие признания в любви настораживают". Китайская пословица). Аня, чуткая, нежная, тонкая девушка возлагает большие надежды на будущее: "Мы насадим новый сад, роскошнее этого..." (Х, 347), "Мы будем читать в осенние вечера, прочтем много книг, и перед нами откроется новый, чудесный мир..." (Х, 352). Неизвестно, кого больше она хочет убедить, себя или мать, во всяком случае, у нее есть все основания ждать от будущего еще одного вишневого сада, ее вишневого сада. Она с бережной осторожностью относится к прошлому своей матери, может быть поэтому, находит в себе силы сказать лишь "Прощай, дом! Прощай, старая жизнь!" А слова "Здравствуй, новая жизнь!" принадлежат уже Пете Трофимову (Х, 356). (Эта деталь характеризует, на наш взгляд, психологическую особенность отношения к прошлому и будущему мужчины и женщины. Женщина, по сути своей, должна уметь провожать. А провожают что-то близкое, родное, очень дорогое сердцу. Мужчине же отведена роль первооткрывателя, мужчина встречает то, что впереди, оно неизвестное, чужое, может оказаться враждебным. Поэтому ответственность за ритуал встречи лежит на плечах сильного пола.) Надо заметить, что рассмотренный нами вариант решения проблемы времени, когда герои представляют собой своеобразных носителей той или иной временной функции, является лишь одним из аспектов реализации этой темы как в пьесе "Вишневый сад", так и в творчестве Чехова в целом. Вообще же время - почти материализовавшийся персонаж драматургии писателя, который не появляется на сцене, но присутствие его чувствуют остро как герои, так и зрители (читатели). "Шаги за сценой", звук лопнувшей струны, стук палки сторожа (а сторожа ли?), звук сорвавшейся где-то далеко бадьи в шахте, вой ветра, запахи... Кажется, что за всеми этими проявлениями материального мира стоит какая-то очень умная и властная сила, которая дирижирует вещами, чтобы обнаружить свое существование. Эта сила способна нести серьезные разрушения, потрясения во внутреннем мире человека, в системе его ценностей, а может просто шалить, напоминая своей беспечностью какого-нибудь барабашку или домового. Это Время. Оно капризничает, оно нездорово. Оно как будто сдвинуто или перекошено, поэтому перекосилась жизнь, судьба каждого героя драматургии Чехова. Все не на своем месте: артистка не на сцене, доктор не в клинике, профессор не на кафедре, хозяйка в собственном имении проездом. Все изображено в какой-то переломный момент, что-то вот-вот должно произойти. Ощущается случайность и скоротечность событий. Все как бы на грани, за которой возможность кануть в небытие. Главные герои всегда откуда-то пришли и куда-то должны уехать. Уехать в какие-то несуществующие города, где они могли бы обрести свое новое лицо, свой новый ритм жизни, жизни осмысленной, полной духовного удовлетворения. Но городов таких нет, и их отъезды переезды не принесут никаких изменений, ведь от себя никуда не уйдешь. Как говорил Сенека, что пользы тебе в путешествиях, когда повсюду за собой ты таскаешь самого себя? Такое восприятие времени как некоей силы, не зависящей от воли и сознания человека, и времени, которое либо сломалось, либо больно, очень близко героям драматических произведений Самуэля Беккета, английского абсурдиста, "великолепно безумного ирландца", как называл его Ричард Олдингтон. Лейтмотив произведений Беккета- это образ дороги, дороги жизни, которая в его художественном мире нередко становится ничем иным, как дорогой смерти. Для него дорога является всеобъемлющим символом мира, отсюда предназначение человека выражено в образе бредущего по дороге путника. Иногда герои Беккета идут, не зная ни цели, с какой они идут, ни места назначения. Герой позднего Беккета - одинокий путник. В пьесе "Эндшпиль" между Хаммом и Кловом происходит короткий обмен репликами, из которого мы чувствуем, насколько сильно время (а оно в этом произведении изображено в непривычной для себя форме - статично) давит на них. Герои испытывают какую-то тяжесть, что-то как будто висит над их головами и заставляет жить в затянувшемся шоке. Хамм : Который час? Клов : Как всегда Хамм : Ты смотрел? Клов : Да. Хамм : Ну и сколько? Клов : Ноль" [33]. Клов : Я пошел, дела есть. Хамм : У тебя на кухне? Клов : Да. Хамм : Что за дела, хотел бы я знать. Клов : Стену разглядывать. Хамм : ... Клов : Вижу мой свет, который угасает" [34]. Хамм : Сегодня вечер как вечер, да, Клов? Клов : Похоже. (Пауза) Хамм : (С тревогой): Но в чем же дело, в чем же дело? Клов : Что-то идет своим чередом" [35]. Мотив наказания человека, которое осуществляет время, перестав как будто "идти", лишив жизнь человека событийности, динамичности, прослеживается в пьесе "Счастливые дни". Ее герои - супружеская пара: Винни, женщина лет пятидесяти, и Вилли, мужчина лет шестидесяти. Они сидят в маленьких ямках, которые выкопали для себя, это напоминает погребение самого себя заживо или какую-то репетицию смерти. Но вряд ли что-то произойдет в их жизни, даже такое печальное событие, как смерть, вероятно, не в силах побороть вязкую студенистость времени, забывшего, что такое "дважды не ступишь в одну воду". "Винни : Бывает уже виден конец - все дела - на этот день - переделаны, все слова пересказаны - пора бы ночи наступить, а дню не видно конца, конца-краю не видно, а ночная пора не наступает, нет" [36]. "Винни : Звонок звонит, а ты еще не пела. День ушел - ушел весь, ушел безвозвратно, а песня - какая-никакая - так и не спета. Вот в чем загвоздка. Нельзя петь... когда вздумается, нет, нет" [37]. 2. ЛЮБОВЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ ЧЕХОВА. Любая теория любви начинается с теории человека. Эрих Фромм Любовь в жизни Чехова - тема, которая вряд ли когда-нибудь будет до конца исследована, описана, прокомментирована. Чехов останется для нас вечной загадкой. И в этом, видимо, воля судьбы, в мудрости которой сомневаться вряд ли стоит. Как говориться в Писании, "Тайна сия велика есть". И хочется опровергнуть жизненный постулат о том, что тайное всегда становится явным. К счастью, не всегда это происходит так. Можно пытаться ответить на вопрос, кого же на самом деле любил Чехов: Мизинову, Авилову, Книппер? Какое место в его сердце занимали Эфрос, Яворская? Любил ли он вообще кого-нибудь или был, по мнению Лики Мизиновой, "кислятиной", а не "живым человеком - мужчиной!" [38], человеком с "холодной кровью", как написал о нем критик Н.К. Михайловский в статье о сборнике рассказов Чехова "Хмурые люди"? Но вряд ли эти размышления приведут нас к пониманию творчества писателя. Вновь сошлемся на мнение Льва Шестова, который считал, что нет вернее способа "узнать", чем положиться на чеховские произведения и на свою догадку. Единственный факт, который хочется привести, говоря об образе Чехова-человека, это мнения Мережковского и Шестова, которые представляют собой некий обобщенный образ-впечатление или образ-символ русского писателя, полученный через призму их восприятия. Мережковский замечает такую "странную" особенность Чехова, как то, что он был всегда "одного и того же возраста, неопределенного, среднего" [39]. Он никогда не казался ему молодым и не мог, соответственно, стареть [40]. Шестов обращает внимание на то, что "Чехов всегда ходит сгорбившись, понурив голову и никогда не обращает взоров к небесам, ибо там для него не начертаны знамения" [41]. Безусловно, что эти небольшие штрихи к портрету Чехова несут в себе определенную символическую нагрузку, отличаются долей условности, но ведь и то, из чего состоит произведение литературы, тоже по сути своей условно. Добавим следующий факт из жизни писателя (скорее из внутренней жизни, т.к. это замечание найдено в его записной книжке): "Как я буду лежать в могиле один, так, в сущности, я и живу одиноким" [42]. А отец А.П. Чехова, Павел Егорович, заказал себе однажды печатку с надписью: "Одинокому везде пустыня" [43], за что и "поплатился": реакция отца на такое приобретение сына - женить. А у А.П. Чехова снова в записной книжке найдем слова о том, что если не хочешь быть одиноким, не женись. Что же перед нами? Переданное по наследству предчувствие и опасение одиночества, которое пустило свои корни глубоко, срослось с личностью Антона Павловича и определило его судьбу, его отношение к жизни, к женщине, к любви? Определило стиль его жизни (стиль - это человек, говорили древние), который он сам пытался объяснить О.Л. Книппер, когда она репетировала роль Маши в "Трех сестрах": "Не делай печального лица ни в одном акте... Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только посвистывают и задумываются часто" [44]? Определим поставленный вопрос как риторический. Тема взаимоотношений между мужчиной и женщиной в творчестве писателя занимает одно из значительных (если не главных) мест. Более сорока произведений (рассказов, повестей, драм) описывают мозаику судеб, характеров, ситуаций, связанных с чувством любви, которая может принимать столь различные, иногда самые противоречивые и даже взаимоисключающие друг друга обличия (что в принципе не противоречит природе человека), что вспоминается легенда о Леонардо да Винчи, который с одного и того же человека писал Христа и Иуду. Любовь тонкая, поэтичная, пронизывающая все художественное пространство произведения чистотой, искренностью, особой музыкальностью атмосферы, ощущается в рассказах "Дом с мезонином", "Верочка", "Дама с собачкой", "О любви". Любовь, переродившаяся в скуку, поддавшаяся разлагающему действию обыденности, пошлости - в "Скуке жизни", "Супруге", "Дуэли". Любовь как способ манипулирования одного человека другим, когда сильная сторона, сама не испытывающая глубокого чувства, использует другую, зависимую от нее, именно потому, что та любит глубоко и серьезно (с точки зрения самоощущения героя), мы наблюдаем в рассказах "Володя большой и Володя маленький", "Ариадна", "Шуточка", "Рассказ неизвестного человека". Любовь как нереализовавшаяся возможность счастья для героев, возможность проникнуть в иное жизненное пространство, в котором возможна смена ролей на более удачные, привлекательные, находит свое воплощение в рассказах "На пути", "У знакомых", "О любви", в пьесе "Вишневый сад" (отношения Лопахина и Вари). Предощущение новой, счастливой жизни, в которой угадывается далеко не последняя роль любви, и своеобразная ситуация ухода из жизни обыкновенной в мир, пока еще зыбко наметившийся в мечтах, реализовались в рассказах "Невеста", "В родном углу". За внешним многообразием "трактовок" любви стоит вполне определенный, довольно грустный и пессимистичный взгляд автора на этот вопрос: на этом свете счастья нет, и счастливых людей нет, и счастливой любви нет. Люди пока недостойны счастья и не способны быть счастливыми. Возможно, что когда-нибудь настанут новые времена, жизнь найдет более совершенные формы (в это верят многие чеховские герои), и вопрос о счастье и любви будет лишен определения "больной". 2.1. ЛЮБОВЬ КАК СПОСОБ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ. Шекспиру принадлежит образная модель мира в виде театральных подмостков с идеей-концептом о том, что человеческая жизнь представляет собой неисчерпаемую возможность творить собственную судьбу по своему усмотрению, играя многочисленные роли. Игра в данном случае имеет много общего с чудом, то есть некоей сущностью, субстанцией (правда, несколько эфемерного свойства), которая позволяет человеку превращаться в кого угодно, делает его жизнь яркой, реализует его творческий потенциал, дает шанс быть победителем. Герои некоторых чеховских рассказов воплощают этот принцип с "изнаночной" стороны. Они играют со своими партнерами (вернее, партнершами, так как игра происходит между мужчиной и женщиной) в одну и ту же игру, назвать которую можно "Преследователь и Жертва", с единственной целью в качестве выигрыша получить чувство самоудовлетворения собственной персоной и доказать ничтожество женщины с указанием подобающего ей места. Игра очень жестокая, тем более если учесть, что она включена в любовный контекст произведения. То есть отношения на уровне манипулирования становятся характеристикой великого и святого чувства - любви, которое не осознается героями как высшая ценность человеческой жизни, а принимает какие-то уродливые формы. Рассказ "Шуточка", овеянный тонким лирико-ностальгическим чувством, демонстрирует как раз подобные отношения. Рассказ насыщен сексуальным электричеством, в центре сюжетной структуры - образ санок с испуганной и одновременно восхищенной женщиной и холодным мужчиной, безжалостно играющим с ней, санок, устремляющихся в пропасть, в объятья дьявола, как гласит сам текст. И те самые магические слова, от которых женщина начинает зависеть, "как от морфия или вина", произносятся в момент страшный, вызывающий у Наденьки ужас, почти остановку дыхания, и одновременно влекущий своей тайной, обещанием безумного, сильного, острого ощущения - в момент падения санок в снежную преисподнюю. Тема слабости и зависимости женщины от мужчины звучит в этом рассказе настойчивым рефреном. Герой многократно проделывает свой эксперимент и все с большим вниманием и тайной радостью, почти ликованием в душе, наблюдает за реакцией героини. Идея придуманного героем обмана-фокуса, когда человек, тот, кто является адресатом этого мини-представления, не может разобрать, где иллюзия, а где реальность, довольно невинна. И та радость, которую он испытывает, видя волнение, смущение, ожидание признания на лице героини, сродни радости ребенка, которому удалось-таки хоть раз поводить за нос взрослого. Но вот слова, выбранные для подобной "шуточки", сразу же переводят эту "невинность" в жестокость и цинизм. Женщина поставлена на свое место, напоминается о ее малодушии, гипнотической зависимости от мужчины, она играет жалкую роль. Кажется, что об этом повествует не сам сюжет, содержание, а подтекст, нечто, лежащее за пределами этого короткого рассказа. Какая-то сверхкоммуникативность этого произведения дает почувствовать нам двусмысленность положения женщины, некую символичность в описании катания на санках с горы. Не есть ли это образ падения - сверху вниз? Всякий мужчина - это как бы новый Адам, всякая женщина - новая Ева. Их соединение представляет собой "обновление" грехопадения, причем энергетика греховности смещена в сторону фигуры женщины. Подобный тип отношений между мужчиной и женщиной описан в рассказе "Володя большой и Володя маленький", здесь он обострен до предела, и то, на что в "Шуточке" лишь только намекалось, в этом рассказе представлено открыто и прозаично с налетом бесстрастности и равнодушия. Сюжетная основа игры, в которую молодой человек Владимир Михайлович втягивает свою давнюю знакомую, можно сказать, подругу детства, Софью Львовну, выглядит так. Молодая женщина, недавно вышедшая замуж за человека много старше ее (искренняя любовь как мотив создания семьи здесь сразу отвергается), разрушает, вступая в новую, супружескую жизнь, ореол некоей потенциальной невесты, невесты "вообще", что сильно задевает мужское самолюбие ее старого знакомого. Он сам вряд ли испытывал какие-то чувства к ней, но теперь, в изменившейся ситуации, в ситуации, которая уже "подмочила" репутацию Софьи Львовны (она вышла замуж не по любви, а "par depit" - с досады), он начинает проявлять активность по отношению к ней. Она правильно угадывает, что это интерес "известного свойства", который вызывают дурные и непорядочные женщины, но, естественно, не предполагает, что целью этого интереса является желание унизить ее еще раз, с тем чтобы подтвердить и закрепить за ней ее низкое, лишенное женского достоинства положение, даже больше - ее предательскую сущность. Софья Львовна попадается на эту удочку. "Володя маленький" знает, на что делает ставки. Он уже заранее настолько уверен в несомненности своей оценки этой женщины, что и не изощряется в выборе средств обольщения: "не разговаривая с нею, он слегка наступал ей на ногу и пожимал руку" (VIII, 176). В кульминационный момент рассказа он в ответ на просьбу, почти мольбу героини: "научите меня, чтобы я поступила точно так же, как она (то есть монашенка Оля - И.Б.)... Мне не легко живется... Научите же... Скажите мне что-нибудь убедительное. Хоть одно слово скажите" (VIII, 181), он издевательским тоном произносит - "тарарабумбия". П.Д. Рейфилд считает, что песню с таким припевом поют в Англии в водевиле. На рубеже веков "Тара-ра-бумбия" была любимой песней развращенного английского короля Эдуарда VIII. Тогда не было сомнений, что "Тара-ра-бумбия" - эвфемизм интимной близости [45]. Это же "слово" напевает Чебутыкин в "Трех сестрах", чтобы дразнить Машу и напомнить ей о ее двусмысленном положении. |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 29-11-2007 22:58 |
|
На попытку вернуть себе образ порядочной, умной женщины (вопрос об искренности этой попытки остается открытым), когда Софья Львовна просит Салимовича-младшего поговорить с ней о науке, он цинично и грубо указывает на неуместность подобного разговора с намеком на двуликую сущность героини: "Отчего это вам так вдруг науки захотелось? А, может, хотите конституции? Или, может, севрюжины с хреном?" (VIII, 182). Этот пренебрежительный тон как будто оправдывает себя: "Когда через полчаса он, получивший то, что ему нужно было, сидел в столовой и закусывал, она стояла перед ним на коленях и с жадностью смотрела ему в лицо, и он говорил ей, что она похожа на собачку, которая ждет, чтоб ей бросили кусок ветчины" (VIII, 183). Игра удалась, роли сыграны превосходно, победитель получил свой выигрыш. Но это еще не все. Еще целую неделю ей придется походить на собачку, которая чего-то ждет и вымаливает, а ему, одетому во фрак и белый галстук, щедро "вознаграждать" ее, каждый раз все с большим наслаждением унижая ее и получая моральное удовлетворение, что все расставлено по своим местам: теперь она не лицемерит, а ведет себя как та, кто она есть на самом деле. "Через неделю Володя маленький бросил ее" (VIII, 184), а для нее жизнь после этого "пошла по-прежнему, такая же неинтересная, тоскливая и иногда даже мучительная" (VIII, 184). Для Софьи Львовны эта пошлая игра была, вероятно, чем-то значительным и даже высоким. Она по-своему верна своей женской природе - покоряться, отдаваться сильному - мужчине, то есть мотивы ее ролевого поведения - искреннее желание почувствовать себя женщиной, слабой и беспомощной, как и полагается ей быть. На этом фоне придуманный Володей маленьким лабиринт-ловушка, тщательно подобранный для своей жертвы, выглядит еще более страшным, жестоким, пугающим своей безвыходностью. Женщина, как бы низка и беспринципна она не была, все-таки ждет и видит в отношении к ней мужчины (возможно, придумывает, что видит, так как очень хочет видеть) уважение ее как личности, восхищение ее достоинствами, поэтому воспринимает мужчину как человека почти идеального. Мужчина же, напротив, смотрит на все слишком приземленно, если не сказать больше. Женщина для него человек второго сорта. Это изначальное несоответствие является причиной и основой жизненной драмы для героев произведений Чехова. В той же тональности, что и в "Володе большом и Володе маленьком", идет диалог между героями "Рассказа неизвестного человека" - Орловым и Зинаидой Федоровной. Орлов тоже "поиграл" с ней, теперь она, словно вещь, ему надоела и прискучила. "- Приятно бывает помечтать. Давайте, Жорж, мечтать вслух! - Я в институте не был, не проходил этой науки. Вы не в духе? - спросила Зинаида Федоровна, беря Орлова за руку. - Скажите - отчего? Когда вы бываете такой, я боюсь. Не поймешь, голова у вас болит или вы сердитесь на меня..." (VIII, 124). Она все-таки сумела втянуть его в серьезный разговор, уверяя, что он должен бросить службу. Далее следует сцена с бурными слезами, а за ней - примирение, которое является почти что фотографической копией фрагмента сцены между Софьей Львовной и Володей. "Скоро она перестала плакать. С невысохшими слезами на ресницах, сидя на коленях у Орлова (кстати, Володя тоже сажает Софью на колено и покачивает, как ребенка; думается, что картина, когда женщина сидит на коленях у мужчины, дает доказательство того, что отношения между этими людьми достигли той степени открытости и доверительности, которую можно назвать интимно-личностной, на деле же - доверительность и открытость характеризует только женщину, жест мужчины противоположен его внутренним установкам - И.Б.), она вполголоса рассказывала ему что-то трогательное, похожее на воспоминания детства и юности, и гладила его рукой по лицу, целовала и внимательно рассматривала его руки с кольцами и брелоки на цепочке" (VIII, 126). Для этой женщины такая "наивная", "безобидная" игра с ней Орлова окажется страшной трагедией - родив ребенка, она покончит с собой. Судьба ее дочери явно будет незавидной (о ней не захотел похлопотать ее отец - Орлов, а передал эти заботы Пекарскому). Таким образом, та невинная "шуточка", которую придумал когда-то герой одноименного рассказа, оборачивается сначала обманом, потом сильным потрясением и, наконец, процессом самодеструкции личности как кульминационной стадией человеческого равнодушия и жестокости его забав. В роли бездушного манипулятора может выступать и женщина. А мужчина, соответственно, переходит в роль тонко чувствующего, зависимого от нее существа, человека слабого и страдающего. То есть происходит смена актеров, роли остаются прежними. "Архетип" женщины-хищницы, ее театральной игры с собой и окружающими занимает Чехова в "Княжне", "Супруге", "Ариадне". В этот же ряд встает и более ранняя (1886) "Тина". Героиня рассказа "Ариадна" - молодая женщина, которой изначально Чехов отказывает в способности любить. Ее внешняя красота, так сильно покорившая главного героя Ивана Ильича Шамохина, словно компенсирует духовную ущербность этой женщины. Ее бездушность, внутренняя пустота при наличии яркой внешности и активности во внешнем проявлении (участие в разговорах, мимика, жесты, смех и т.д.) превращают ее в какую-то вещь, неживой предмет, похожий на заводную куклу. Игра, которую она ведет с Шамохиным, состоит в том, что она, отталкивая или проявляя холодность по отношению к герою, постоянно создает условия для надежды Шамохина, дает ему его шанс, пользуясь знанием того, что он испытывает к ней сильное чувство. Ариадна Григорьевна как будто дергает за ниточку марионетку, нить эта не спасительная, а губительная, она заводит героя в лабиринт все дальше и дальше. И спастись можно, лишь порвав эту нить, но Иван Ильич вряд ли на это способен. Любопытен рассказ "Тина", который воспринимается как антисемитский и омерзительно грязный. Героиня - Сусанна Моисеевна, наследница вино-водочной торговли, не хочет платить по векселю герою, русскому офицеру. Она сначала заговаривает его всякой чепухой о том, что она не любит евреев и все еврейское, а любит русских и французов, как она ходит в церковь и т.п., все это делается для того, чтобы усыпить бдительность Сокольского. Потом она внезапно выхватывает у него вексель, они начинают бороться, и дело кончается объятиями. Героя шокирует развращенность Сусанны, вульгарная роскошь, но что-то в ней неудержимо его притягивает. Он понимает, что это гибель, и сам удивляется ее власти над собой. Образ Сусанны овеян какой-то дьявольской, нечистой атмосферой, связанной с темой смерти, распада: в ее доме ощущается запах жасмина, похожий на тление, Сусанна бледна, кончик длинного носа и уши у нее, как восковые, у нее бледные десны. Балдахин над ее кроватью похож на погребальный. Она наследница умерших владельцев. Можно предположить, что Сусанна является представителем мира "иного", она "мертва". Возникает мотив мифа о любви к мертвецу. Жертвами дьявольского обаяния Сусанны стало много мужчин, каждый из которых понимает гибельность своего положения и сознает бессильность каких-либо попыток вырваться, избавиться от этого наваждения. Такой способ общаться между собой, основанный на личной выгоде, со стремлением во что бы то ни стало утолить свое больное самолюбие любым способом, пренебрежение человеческим достоинством другого человека, более того, использование его в качестве средства к достижению своих низких целей - это верный путь к разрушению нравственных законов человеческого бытия. Любовные переживания героев еще сильнее обнажают низость и жестокость природы людей, отсутствие у них культуры эмоциональной идентификации, уважения и взаимопонимания другого. 2.2. ЛЮБОВЬ "БЕСПОМОЩНЫХ И МИЛЫХ" ЛЮДЕЙ, УПУСКАЮЩИХ СВОЕ СЧАСТЬЕ. "Дар ускользания", которым, по мнению Роналда Хингли, обладал Чехов, видимо, передался его героям, трансформировавшись в "дар упускания" - своеобразный талант настойчиво не замечать свое счастье, бежать от нового чувства, боясь самого себя. Герои Чехова верят в любовь и хотят любви, но это как бы только в теории, отвлеченно, как говорится, "вообще". Когда же дело касается личной судьбы каждого из них, они делают все возможное, чтобы она не состоялась, оправдывая себя равнодушием, отсутствием активного, эмоционального отношения к жизни, "старостью в тридцать лет", как объяснил для себя ситуацию герой рассказа "Верочка". Вообще же тема раннего "старения" и равнодушия, отсутствия эмоционально насыщенной жизни у героев произведений Чехова - одна из любимых тем писателя. Герой (чаще всего это касается мужчины), не добившись определенных успехов в жизни, ставит на себе крест, не предпринимая никаких попыток как-то продолжить или вновь начать ту деятельность, которая позволила бы ему самореализоваться, выразить себя. Таков Иванов в одноименной пьесе, Огнев в рассказе "Верочка". Нерешительность, неуверенность, оторванность от реальности, мечтательность и склонность много и часто рассуждать о высоких материях характеризуют героя-мужчину в творческом мире Чехова. Это составляет чуть ли не главную часть его обаяния. Сознание своей ненужности, неудачливости, ощущение бремени, которое легло на него тяжким грузом (муки совести) из-за того, что он не может приносить пользу, ставит его в ряд так называемых "лишних людей". Это явление характерно для русской культуры, и кроме того, что иллюстрирует определенный кризис в общественной жизни страны, является и своего рода обретением в духовном аспекте. Как пишет М. Курдюмов, "ненужность же являлась обычно следствием того, что широкие планы не удались и прекрасные мечты не оправдались. Если же от большого приходится отказаться, то малым заниматься не стоит..." [46]. Идеалистический взгляд на мир, честолюбие, нравственная красота, верность своим принципам - все это делает лишнего человека привлекательным. Даже его бездеятельность очаровывает. Особая избранность лишнего человека из всей массы "нелишних" людей неслучайна. Это особые люди. И пусть они "в частной жизни не способны ни на что дельное", "безнадежные неудачники в любой области", добрые по сути своей, но "неспособные творить добро" [47], все-таки эти люди - "обещание лучшего будущего для всего мира, ибо из всех законов Природы, возможно, самый замечательный - выживание слабейших" [48]. К этому типу талантливых неудачников относится герой рассказа "Дом с мезонином", у которого очень юная прелестная девушка вызывает благодарное, нежное чувство. Похоже, что они увидели друг в друге свое отражение. И он и она тонко чувствуют ту гармонию, которую им дает неспешная жизнь, состоящая из прогулок, чаепитий, чтения книг, писания картин, посещения церкви. Они погружены в нее, как в некий бесконечно длинный и сладостный сон. И трудно представить, что это они выбрали такую жизнь, кажется, сама жизнь выбрала их, так как они слишком беспомощны, чтобы проявить свою волю. Как ни парадоксально, они очень милы и обаятельны именно потому, что беспомощны. Господин N. признается, что для него нет ничего приятнее, "когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою" (IХ, 62 - 63). Женя Волчанинова (Мисюсь), встав утром, читает книгу, сидя на террасе в глубоком кресле, или гуляет с мамой в саду, или занята своими мыслями и в мечтательной задумчивости может провести целый день. Одним словом, она живет той тонкой, нежной, созерцательной жизнью, какую требует ее тонкое, нежное существо. Эти двое людей прекрасны своей чистотой, добротой, умом, честностью, искренностью. Но оказывается, что этого недостаточно чтобы помочь своему счастью. Главный герой отчего-то не пытается добиться у судьбы снисхождения. Он сосредоточен на своем настроении : "Трезвое, будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчаниновых, и по-прежнему стало скучно жить" (IX, 74). Никаких действий за этим не последует, лишь ностальгическое воспоминание будет еще очень долго томить господина N. и заставлять надеяться, "что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся..." (IX, 74). Люди, которые слишком уверенно идут по жизни, вызывают у Чехова чувство опасения. Он отказывает им в доверии, потому что они, не оглядываясь, разменивают свое время на земле на сиюминутный успех, спешат увидеть свое торжество над жизнью, только победы эти преходящи, тленны, и не стоят того, что за них отдается. Подавляюще инициативна Лида Волчанинова, старшая сестра Мисюсь. Она убеждена, что "самая высокая и святая задача культурного человека - это служить ближним" (IX, 68). И в безоглядном стремлении к этой цели Лида оставляет за собой право выбора, решает за других, тех, кого она облагодетельствовала. Лида твердо убеждена в своей правоте, когда предлагает людям, изнуренным непосильным трудом, запуганным существующими условиями, библиотеки, медицинские пункты, школы, даже не думая об изменении самой системы их жизни. С той же напористостью, быстро и решительно, ни капли не сомневаясь, она "наводит порядок" в душе младшей сестры, чем, вероятно, губит возможное счастье Мисюсь и господина N. Как должное воспринимается заискивание матери. Милые и беспомощные люди, как ни красивы они, будут всегда находиться в положении зависимых от других людей, от мельчайших шероховатостей, о которые им придется споткнуться, от поворотов судьбы, от собственной слабости, наконец. "На все воля божья", как говорит Мисюсь своей матери относительно неустроенности судьбы ее сестры. Поэтому они упускают тот шанс, который им дает жизнь, упускают почти сознательно, заглушив чувствительность души и заслонившись от всего мира высочайшей требовательностью к себе. Почти аналогичную ситуацию мы наблюдаем в рассказе "Верочка" с той лишь разницей, что здесь герой отказывает себе в способности любить и "история любви" принимает характер неразделенного чувства. Огнев, как ни старается возбудить в себе чувство влюбленности, не находит "в своей душе даже искорки". Любовь, поселившаяся в сердце Верочки, оказывается как бы "не к месту и не ко времени". И здесь герои вряд ли могут что-то изменить. Но так выглядит внешняя сторона ситуации. Что же касается анализа внутреннего состояния героя, то следует заострить внимание на мнимом характере равнодушия Огнева. После того, как он, по его мнению, на признание ему в любви "неуклюже и топорно "отказал" и остался один, ему "стало казаться, что он потерял что-то очень дорогое, близкое, чего уже не найти ему" (VI, 20). Он вдруг почувствовал, что от него ускользнула часть его молодости, и он "так бесплодно пережил" те минуты, которые "уже более не повторятся". Возникает мысль о том, что и Огнев любил, но его любовь, не желая ему открываться, носила какой-то скрытый, невидимый характер, боясь пробиться через так называемые "бессилие души, неспособность воспринимать глубоко красоту, раннюю старость, приобретенную путем воспитания, беспорядочной борьбы из-за куска хлеба, номерной бессемейной жизни" (VI, 20). Кажется, что герой слишком сильно убедил самого себя в том, что повинен в этих "не смертных" грехах, и какую-то очень важную сторону жизни для себя намеренно закрыл, чем сильно обеднил собственную судьбу. Излишняя требовательность к себе, высокий уровень притязаний к своей личности делают человека слишком рациональным, запрещают ему отдаваться воле случая, жить тем мгновением, прекрасным и неуловимым, которое зовется "настоящим". Они лишают способности видеть многогранность и изменчивость жизненных явлений, имеющих отношение к миру чувств, эмоций, переживаний. В рассказе есть интересная деталь, показывающая, насколько чувствителен и совестлив герой. Объяснение Верочки в любви к Огневу происходит на маленьком мостике, с которого было видно, "как дорога исчезала в черной просеке" (VI, 15). Мостик служит для соединения двух миров: своего, близкого, родного и чужого, неизвестного. Верочка в некотором смысле тоже пытается проложить свой мостик к неизвестному, чужому, в принципе, человеку. Этот мостик, на котором они остановились - последняя надежда девушки. Примечателен тот факт, что, оставшись один, Огнев возвращается к мостику, и здесь он пытается найти причину своей холодности, здесь он, как бы оправдывая себя и прося прощения у Веры, разговаривает с собственной совестью. И почему-то, после этого "ему страстно захотелось вернуть потерянное". Рассказ заканчивается на высокой ноте почти звенящей грусти. Несостоявшееся, ускользнувшее, вовремя не замеченное чувство, чувство искреннее, сильное и чистое оставляет за собой право на многоточие, как на "следы на цыпочках ушедших слов", слов, которые были не сказаны, которые не могли быть сказаны. 2.3. ЛЮБОВЬ КАК НЕРЕАЛИЗОВАВШАЯСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СЧАСТЬЯ ГЕРОЕВ. "ИЛЛЮЗОРНОСТЬ" И "ФАНТОМНОСТЬ" ЛЮБВИ. Мотив возможной, но парадоксально несостоявшейся любви, любви с оттенком некоей иллюзорности и нереальности, прослеживается в рассказах "О любви", "У знакомых", "На пути", "В родном углу", "Поцелуй". Герои этих рассказов в силу разных причин не решаются на признание (немного особняком стоит рассказ "Поцелуй"), другая же сторона настолько сильно ожидает решительных шагов от предмета своей любви, что атмосфера накаляется до такой степени, когда любая малозначащая фраза, случайный взгляд и т.д., подобно искре, воспламеняют надежду на счастье, которое, по мнению "ожидающих", почти уже случилось. Но счастью не суждено осуществиться, и они оказываются жестоко обмануты (на это у судьбы есть свои причины). Героиня рассказа "У знакомых", Надежда, возлагает (согласно своему имени) большие надежды на своего старого знакомого, вероятно, бывшего возлюбленного (ее любовь, похоже, не остыла и сейчас, спустя десяток лет, оно сильно трансформировалось в тоску по тихому, обыкновенному, женскому счастью) Михаила Подгорина. Для него же одно пребывание в Кузьминках ощущается как повинность. Он едет в это имение с такой установкой, и она не просто подтверждается, а даже превосходит себя (планировал пробыть дня три - уехал на следующее утро). Та, Ва и На, а также Сергей Сергеич ожидали от визита Подгорина слишком многого. И их радушие, чрезмерная радость и преувеличенная приветливость, граничащая с какой-то приторностью и наигранностью, еще сильнее контрастируют с "некоммуникативным" настроем главного героя. Корыстность причин, побудивших пригласить старого знакомого к себе в имение, словно витает в воздухе, Подгорин чувствует это с момента его появления в доме Лосевых. Чего же от него хотят? Всего ничего - чтобы он уладил их дела с имением, которое разорилось и теперь выставлено на торги, чтобы он помог материально, от него ждут непосредственного участия в судьбе Надежды. Причем на последнее делается очень большая ставка, ибо благополучное разрешение этого крайне интимного вопроса, сулит, исходя из логики хозяев, удачную развязку в делах материальных. Любовь увязывают с чем-то практичным и приземленным. Подгорин дивится тому, насколько уродливы, пусты и приземленны стали сами некогда привлекательные девушки. Они превратились в женщин, в которых не было ничего женского. Татьяна так сильно занята своим семейным счастьем, что не испытывает счастья, постоянно стоит "на страже своей любви и своих прав на эту любовь и всякую минуту готова броситься на врага, который захотел бы отнять у нее мужа и детей" (IX, 415). |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 29-11-2007 23:01 |
|
Высшее образование и работа врачом Вари, казалось, "не коснулись в ней женщины. Она... любила свадьбы, роды, крестины, длинные разговоры о детях, любила страшные романы с благоприятной развязкой, в газетах читала только про пожары, наводнения и торжественные церемонии..." (IX, 415). Надежда же настолько зациклилась на своей "женской судьбе", что "влюблена в свои мечты о муже и детях" и страстно хочет одного: чтобы ей сделали предложение. Подгорин, будучи человеком слабым (он не находил в себе смелости даже правдиво объяснить своим приятелям безвыходное положение с их имением), естественно, не выдерживает такого напора "ожиданий". И несмотря на короткое "затмение", которое на него нашло, когда он подумал о Надежде на миг как о возможной жене (эта мысль, кстати, очень скоро вызвала у него испуг), он явно не готов разделить свою судьбу с этой женщиной. Мотив ожидания достигает своего максимального воплощения в финале рассказа, когда Надежда, почти уверенная в счастливом решении своей судьбы, когда осталось лишь только объясниться, стоит ночью около башни, не видя, но чувствуя присутствие любимого человека. Она даже улыбается, надеясь на близкое счастье. Но ее ожидание ответного жеста со стороны Подгорина не увенчивается успехом. Он, досадуя (кстати, характерное состояние для героев этого "типа") на свою холодную скуку, "неумение приспособляться к действительной жизни, неумение брать от нее то, что она может дать" и одновременно с "жаждой того, чего нет и не может быть на земле", сидит, притаившись, и думает только о том, "что здесь в усадьбе, в лунную ночь, около красивой, влюбленной, мечтательной девушки он так же равнодушен, как на Малой Бронной..." (IX, 427). "Иллюзорность" любви обязана своим качеством мужчине, для которого все, что происходило в Кузьминках, тоже было не больше, чем иллюзией, о которой он, приехав домой, через десять минут забыл. Что может сделать человека счастливым? Обычно в поисках счастья люди стремятся к чему-то вполне зримому и осязаемому, и желательно, чтобы этого было много. Счастливая семейная жизнь в образе жены, как минимум пяти розовощеких, веснушчатых, пухленьких детей, роскошного особняка с окнами, выходящими в сад. Или яркая, богатая впечатлениями от миллионов поклонников, цветов, признания за блистательно сыгранные роли жизнь актрисы, в которой есть все: слезы, радость, любовь, разлука, трагедия... правда, только на сцене. Или высокий чин, заставляющий всех почтенно преклонять голову и рассыпаться в любезностях. Или... что-то еще. Как ни парадоксально, но именно наличие перечисленного, а также неназванного, но имеющего к предмету разговора примерно такое же непосредственное отношение (мы имеем в виду мечту человека о счастье, как воплощение его удовлетворенного самолюбия) делает этого самого человека еще более несчастным и одиноким. Он как будто осознает, что теперь, в новом положении он оказался от счастья еще дальше, чем был. Наверно, это происходит оттого, что люди не принимают всерьез маленькие подарки судьбы, счастливые случайности, которые встречаются в повседневной жизни. А ведь счастье на самом деле - маленькое, его пугают крупные масштабы ненасытного человеческого желания обладать. Похоже, что эта мысль воплотилась в рассказе Чехова "Поцелуй". Герой этого рассказа, штабс-капитан Рябович, считающий себя "самым робким, самым скромным и самым бесцветным офицером в всей бригаде" (VI, 262), является, в принципе, воплощением столь известного и до боли знакомого типа "маленького человека", своеобразного порождения русской культуры. Маленький человек по природе своей не требует от жизни многого, точнее сказать, не ждет от нее ничего, так как тоже поставил на себе крест, раз и навсегда причислив себя к "бесцветному" роду людей. Из-за своей определенной вычеркнутости из жизни, намеренной изоляции себя даже из мыслей о том, что и в его жизни возможно счастье, самое настоящее, радостное и всепоглощающее, возможен успех, который поставит его на пьедестал победителя, этот человек обладает повышенной чувствительностью и обостренным восприятием всего происходящего (скудная "внешняя" жизнь компенсируется богатством переживаний внутренней). Поэтому столь незначительный казус, как обознание, когда Рябовича приняли за ожидаемого любимого мужчину и поцеловали (восхитительность ситуации заключается еще и в том, что Рябович оказывается неузнанным и та прекрасная незнакомка, которая его поцеловала, как бы перевернув тем самым сюжет о Спящей Красавице, остается той же прекрасной незнакомкой), влечет за собой настоящее перерождение героя. Из робкого, сутуловатого, стесняющегося самого себя человека герой превратился в необычайно обаятельного мужчину, улыбка которого заставила остановиться перед ним жену генерала, к которому были приглашены офицеры, Раббеку. Он ощущает свое новое состояние примерно так же, как чувствовал себя Гадкий Утенок, однажды обратившийся в лебедя. "Его шея, которую только что обхватывали мягкие пахучие руки, казалось ему, была вымазана маслом; на щеке около левого уса, куда поцеловала незнакомка, дрожал легкий, приятный холодок, как от мятных капель... весь же он... был полон нового странного чувства, которое все росло и росло..." (VI, 265). Эта маленькая приятная случайность явилась для Рябовича самым важным и значительным событием в его жизни, она перевернула все его привычные взгляды на мир и самого себя в один миг, она заразила его влюбленностью во всех женщин сразу, влюбленностью во всех людей и себя, влюбленностью в жизнь. Какой-то далекий, прекрасный, неведомый мир нечаянно коснулся и его, лишь слегка дотронувшись своей чудесной красотой, вдохновением, волшебством замкнувшейся в себе, одинокой и безразличной души героя. И он понял, насколько преобразилась теперь его жизнь. В нем жила теперь его маленькая тайна, подарившая ему счастья больше, чем у всех людей на земле. Когда он засыпал, то "последней его мыслью было то, что кто-то обласкал и обрадовал его, что в его жизни свершилось что-то необыкновенное, глупое, но чрезвычайно хорошее и радостное. Эта мысль не оставляла его и во сне" (VI, 268). И каждое утро, "когда денщик подавал ему умываться, он, обливая голову холодной водой, всякий раз вспоминал, что в его жизни есть что-то хорошее и теплое" (VI, 273). Любовь к тому воображаемому образу женщины, который то зыбко складывался, то настойчиво ускользал из фантазирующего ума Рябовича, не менее сильна и реалистична, чем любовь к конкретному человеку, скорее даже более. Она возникает из ничего, из воздуха и напоминает добрую шутку какого-то фокусника. И пусть очень скоро это эйфорическое состояние Рябовича пройдет и сменится на довольно унылое и безрадостное, так свойственное ему, и пусть после короткого ликования его души жизнь вдруг покажется ему "необыкновенно скудной, убогой и бесцветной" (VI, 276), все-таки этот маленький эпизод его биографии показал ему возможность другой жизни, которая строится по законам великого и прекрасного чувства - любви к женщине, и что он достоин этого чувства. Этот рассказ представляет собой как бы своеобразную вершину, крайнюю точку в реализации писателем мотива несостоявшейся, "ускользнувшей" любви, любви, которая прошла стороной мимо героев, слегка задев их своим стройным станом. Ведь в этом произведении есть только один влюбленный мужчина, а предметом его любви является неясный образ, фантом. Двумя словами "ничего не произошло" можно описать и сюжет рассказа "На пути", который демонстрирует еще одну вариацию мотива нереализовавшейся любви, своеобразной "любви-невидимки". Рассказ повествует о случайной встрече двух очень разных людей в комнате трактира с нелепым названием "проезжающая", о разговоре до полуночи, о расставании утром - у каждого своя дорога. Ничего особенного как будто не произошло, но что-то очень важное случилось во внутреннем мире сорокалетнего, уставшего от жизни и своего сложного характера Григория Петровича Лихарева и молодой женщины Марии Михайловны Иловайской. Что-то словно сдвинулось с привычного места в душе каждого из них, как будто бы проснулась от долгого сна самая заветная мечта, о которой герои уже успели позабыть в вихре повседневных забот. Эта встреча показала им, какую прелесть заключают в себе неожиданные и милые дорожные случайности, а обобщенно говоря, случайности жизни (название рассказа помимо своего конкретного значения несет символическую обобщенность: встреча героев одновременно случайна, не важна и полна глубокого смысла и значимости для каждого из них, это - встреча на их жизненном пути). Примечательно, что о любви в этом произведении не говорится ни слова, но ее атмосферу мы улавливаем безошибочно. У нас не возникает сомнений в том, что герои друг от друга ожидают получить хоть какое-нибудь подтверждение заинтересованности ими как возможными партнерами в жизни, наполненной любовью, как потенциальными спутниками жизни. В чем же дело? Как мы это понимаем? Думается, что писатель использует такую форму повествования о любви, как намек. Очень много эмоционально-информационной нагрузки вынесено за пределы рассказа, возложено на способность домыслить и "дочувствовать", которой обладает читательское восприятие. Недосказанность в чувствах, которые возникли между героями, усиленная авторской недосказанностью о том, что же на самом деле они испытывают, создает эффект этой проницаемости, невидимости, нереальности любви. Люди покоряются судьбе, а она считает нужным не превращать мимолетное увлечение во что-то серьезное и потому разводит этих людей. Взаимное ожидание друг от друга решительного шага сводит его возможность к нулю. Стоит обратить внимание на то, что даже если герои открываются друг другу в своем чувстве, "позволяют" себе любовь, сближаются, то в итоге они оказываются не более счастливыми, чем Подгорин ("У знакомых") или Алехин ("О любви"): и для них "самое сложное и трудное только еще начинается" (ХI, 336). Своеобразной антитезой рассмотренным рассказам выглядят рассказы "Дама с собачкой" и "Страх", в которых герои преодолевают барьеры общественного мнения, свою застенчивость, в чем-то поступаются со своей принципиальностью ради любви, ради дорогого им человека. Но это приносит им душевные муки, чувство вины и ощущение себя в тягостном и неловком положении. Это чувствует Анна Сергеевна и Гуров ("Дама с собачкой"), Мария Сергеевна и друг ее мужа ("Страх"). Люди глубокопорядочные, честные перед своей совестью и верные своему внутреннему "Я", оказываются очень уязвимы и ранимы своим новым положением, которое заставляет их противоречить их нравственным законам. Они поставлены в очень сложные условия, в ситуацию выбора, когда при любом варианте решения жизненной задачи будет пострадавшая сторона. Поэтому они чувствуют себя глубоко несчастными, понимают безвыходность своего положения, досадуют на жестокость судьбы, которая сыграла с ними злую шутку: подарила им любовь слишком поздно, когда у каждого есть уже семья, груз безрадостной личной жизни, тщетности надежд на лучшее, разочарований. Любить и продолжать жить "по совести" теперь нельзя, приходится выбирать что-то одно. И герой рассказа "Страх" ставит выше чувство уважения к своему другу, поэтому на другой день после случившегося объяснения в любви к нему Марии Сергеевны он навсегда покидает этот дом, этот город. Герои рассказа "Дама с собачкой" отдают все-таки предпочтение любви (борьба с чувством долга была долгой и серьезной), но писатель оставляет их как раз в начале, у истоков их трудной, новой, ответственной, очень сложной жизни. И прогнозировать счастливый конец их взаимоотношений довольно трудно. Таким образом, понятие "счастливой любви" является оксюморонным явлением в художественном мире Чехова. 2.4. МЕТАМОРФОЗЫ УЩЕРБНОЙ ЛЮБВИ В МИРЕ ПОШЛЫХ И ОГРАНИЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ В очерке о Чехове Горький писал, что врагом Чехова была пошлость, всю жизнь он боролся с ней и высмеивал ее [49]. Он видел ее процветание в человеческом обществе, понимал опасность ее разрушительной силы, которая делает людей замкнутыми на их собственных заботах, ленивыми, не желающими ничего видеть дальше своих маленьких корыстных интересов, сужает их жизненное пространство до минимума, в котором они, задавленные стереотипностью своего образа жизни, превращаются в живые механизмы, удовлетворяющие свои (явно не духовные) потребности. Пошлость понимается писателем как лень души человека, как узость его взглядов на мир, как ограниченность его личности в сочетании с неутолимым желанием обладать и нередко завышенной самооценкой. Невозможность существования любви в мире пошлых людей очевидна. Чехов доказывает это, по сути "аксиомное", убеждение в рассказах "Ионыч", "Супруга", в повести "Дуэль". Однако в каждом произведении эта тема умирания любви, перерождения прекрасного чувства в скуку решается сложно и неоднозначно, как это и присуще реальной жизни. Сюжет рассказа "Ионыч" строится на двух признаниях в любви, каждое из которых оказывается отвергнутым. Вначале Он признается в любви Ей и не встречает взаимности. А спустя несколько лет Она, поняв, что лучшего человека, чем Он, в ее жизни не было, говорит ему о своей любви - и с тем же отрицательным результатом. Этот "сценарий" развития действия очень древний (вспомним еще народную сказку о журавле и цапле, так же поочередно и неудачно объяснявшихся в любви, так строится сюжет в пушкинском "Евгении Онегине"). Но каждый раз причины этой несвоевременности или неуместности любви одного человека к другому, конечно, разные. Однозначно ответить на вопрос, кто виноват (или что виновато) в том, что молодой, интересный, полный сил и жажды активной жизни Дмитрий Старцев, каким он предстает перед нами в начале рассказа, превратился в Ионыча в конце произведения, нельзя. Насколько случайно или закономерно это превращение? "Среда ли его заела", а он был не в состоянии ей воспротивиться? Или же зачатки его изменившегося образа жизни лежали в нем самом, были частью его натуры, тем, что является неотъемлимой, во многом определяющей, частью природы характера человека? Или причина в чем-то другом? Безусловно, и то и другое имеет место, а некая третья сила многократно увеличивает их влияние. В.Б. Катаев считает этой силой время. "Чехов включает в ситуацию "герои и среда" течение времени, и это позволяет иначе оценить произошедшее... Чехов вводит в рассказ испытание героя самой обыкновенной вещью - неспешным, но неостановимым ходом времени" [50]. Время опять оказывается против человека: оно затягивает человека в трясину своей бесконечной тягучести, вязкости, однообразности, "мало-помалу", незаметно переделывая человека. И весь "протестантский запал молодости" (Катаев В.Б.), который свойственен Дмитрию Старцеву, оказывается неспособным долго держаться против хода времени и может даже превратиться в свою противоположность, как это и происходит в рассказе. Время осуществляет постепенный переход от живого, еще не устоявшегося и подвижного, к заведенному, раз и навсегда застывшему в жестких рамках усвоенных жизненных правил. Перед нами мотив превращения человека в вещь, механическую куклу, который станет очень актуальным в искусстве ХХ века. Старцев, находясь среди механических заводных кукол (дом Туркиных, шире - все обитатели города С.), постепенно проникнется и усвоит запрограммированность, заведенность времени, которая структурирует жизнь, доводя свой процесс "упорядочивания" до абсолюта, лишая жизнь жизни, по существу, убивая ее. Можно условно назвать жителей города С. духовными мертвецами. Поэтому отчасти признание Старцева было обречено на неудачу. Он не принял во внимание (так как сам еще не видел этого), что, как и все в этом городе, Котик следует своей программе, заранее определенной, составленной из прочитанных книг, питаемой похвалами ее музыкальных способностей и незнанием жизни. Ошибочность ее программы, возможно, станет очевидной для нее позже, а пока у нее есть цель стремиться к чему-то высшему и блестящему, а вовсе не стать женой обыкновенного, невыдающегося человека. А потом он, уподобившись сам бездушной вещи, уже не испытывает потребности в чьей-то любви, внимании, тепле, и своеобразное "прозрение" Екатерины Ивановны насчет бесцветности и скудности ее жизни, желание связать свою жизнь со Старцевым, естественно, остается без ответа. Возникает ощущение, что судьбу человека в чеховском мире определяют силы, сопротивление которым заведомо превышает его возможности. В неравной борьбе с ними человек погибает, потому что сопротивляться времени, в котором ты живешь и от которого зависишь, невозможно, так как оно делает свое дело превращения "незаметно, мало-помалу". Выход из создавшейся ситуации может быть найден при условии, что герои произведений Чехова преодолеют столь характерные для них качества, как заинтересованность только собой, своими интересами, своими чувствами и проблемами, разрушат те невидимые, но очень ощутимые, перегородки между собой и другим человеком, собой и миром, которые делают взаимопонимание невозможным. В рассказе "Супруга" пошлость и развращенность характеризуют героиню Ольгу Дмитриевну, которая приносит много страданий своему мужу Николаю Евграфовичу. Моральный (а точнее аморальный) облик героини исключает возможность существования любви, семейного счастья в доме супругов. Нарушены элементарные основы уважения другого человека. Пресыщенность мужским вниманием, роскошью, праздностью той жизни, которую ведет Ольга Дмитриевна, ощущение своей правоты и стремление повелевать другими превращают эту женщину в животное-хищника, жаждущего получить свой "кусок мяса" любой ценой. Кстати, в рассказе есть интересная деталь, которая подтверждает в героине ее сходство с животным. Это замечание героя о том, что его жена, "несмотря на свою воздушность, ... очень много ела и пила" (VIII, 390). Здесь на этой особенности внимание как будто не задерживается. В рассказе "Ариадна", героиня которого очень напоминает своей хищностью, хитростью, корыстностью супругу Николая Евграфовича, тема потребления пищи становится яркой характеристикой ее ненасытной сущности. В рассказе перечисляются все блюда с указанием времени, когда поедаются. То есть процесс поглощения пищи начинает напоминать какой-то ритуал жертвоприношения чудовищу. "Ели мы ужасно много. Утром нам подавали cafe complet. В час завтрак: мясо, рыба, какой-нибудь омлет, сыр фрукты и вино. В шесть часов обед из восьми блюд с длинными антрактами, в течение которых мы пили пиво и вино. В девятом часу чай. Перед полуночью Ариадна объявила, что она хочет есть, и требовала ветчины и яиц всмятку" (IX, 47). Удивительным образом сочетаются в семье Николая Евграфовича беспринципность, наглость и ветреность жены с глубокой порядочностью и достоинством мужа, который из-за своих твердых жизненных принципов и внутренней ответственности перед своей совестью оказывается в положении зависимого человека, в положении жертвы, которой приходится страдать и чувствовать стыд за недостойное поведение своей жены. Финал рассказа выполняет функцию капли, переполнившей терпение, или искры, достаточной для взрыва бочки с порохом. Он демонстрирует абсолютную "непробиваемость" натуры Ольги Дмитриевны, нечувствительность и эгоистичность внутреннего "Я" этой женщины. Тем незавиднее положение ее мужа, ему остается только сочувствовать |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 29-11-2007 23:01 |
|
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Только кончая задуманное сочинение, мы уясняем себе, с чего нам следовало его начать. Б. Паскаль В данной работе мы попытались рассмотреть творчество А.П. Чехова с непривычной и малоизученной точки зрения - с позиции поэтики абсурда. Вторая задача, поставленная в работе, представляет собой попытку осмысления категории любви в художественной концепции писателя. Две, на первый взгляд, очень разные и далекие друг от друга темы оказываются при более внимательном рассмотрении непосредственно взаимосвязанными, более того, одна из них обусловливает наличие другой (то есть они находятся в своеобразных причинно-следственных отношениях). Внутренняя неустроенность героя произведений Чехова, крайняя зависимость его от обстоятельств внешнего мира, противостоять которым он не в силах, неверие в себя, замкнутость, отчужденность от других, одиночество, скука - то есть те "признаки", которые рисуют нам психологический портрет человека, потерявшегося в чужом, непонятном, бессмысленном мире, объясняют пессимистический взгляд Чехова на разрешение темы любви. Человек в неразумном и несовершенном мире, страдающий от отсутствия гармонии, веры в красоту и добро, не выдерживает испытания любовью. Он бежит от нее, от других, от самого себя, и это бегство загоняет его в еще более одинокий угол. В чем можно найти выход из этого почти тупикового положения? В. Франкл видит три "способа" сделать жизнь достойной называться Жизнью: 1) то, что мы даем миру (творческая работа); 2) то, что мы берем от мира (в смысле переживания ценностей); 3) позиция, которую мы занимаем по отношению к судьбе. Причем ценности отношения наиболее важны. К ним человеку приходится прибегать, когда он оказывается во власти обстоятельств, которые он не в состоянии изменить. При любых обстоятельствах человек свободен занять осмысленную позицию по отношению к ним. Как только мы добавляем ценности отношения к перечню возможных категорий ценностей, пишет Франкл, становится очевидным, что человеческое существование никогда не может оказаться бессмысленным по своей внутренней сути. В поисках гармонии человеку помогает совесть. Это, по Франклу, смысловой орган, интуитивная способность находить единственный смысл, кроющийся в каждой ситуации, оценивать ее с точки зрения личностной значимости [51]. То есть доверие себе, своему внутреннему "Я" - первый и главный шаг на пути к выходу из тупика. Вера в себя для героев Чехова может быть обретена через веру в Бога. Чехов писал: "Человек или должен быть верующим или ищущим веры, иначе он пустой человек" (XVIII, 215). И еще: "Без веры человек жить не может" (Х, 463). С.Н. Булгаков убежден, что "загадка о человеке в чеховской постановке может получить или религиозное разрешение или ... никакого. В первом случае она прямо приводит к самому центральному догмату христианской религии, во втором к самому ужасающему и безнадежному пессимизму, оставляющему далеко позади разочарование Байрона" [52]. Несмотря на пессимизм и безнадежность чеховских произведений можно заметить уверенность автора в том, что всякая живая душа, всякое человеческое существо представляет самостоятельную, незаменимую, абсолютную ценность, которая не может и не должна рассматриваться исключительно как средство, но которая имеет право на милость, на человеческое внимание. Будучи человеком тонкой, ранимой души А.П. Чехов очень мало распространялся по поводу такого глубоко личного вопроса как вера, отношение к религии. Лишь в своем творчестве намеками, полутонами, стараясь "не давить" на читателя, отражает он свои чувства. Душевный покой Липы ("В овраге"), несмотря на перенесенные потрясения жизни, подвижничество Архиерея ("Архиерей") и его смерть с блаженной улыбкой на лице, порыв любви и сострадания, объединивший женщин и студента ("Студент") во время рассказа о евангельском событии - это как раз то, к чему не могут прийти страдающие, рефлексирующие герои Чехова, да и он сам. "Бог, вера, молитва, чистота сердца для Чехова неразрывно связаны только с детством или с детским состоянием души. Уходит детство - и все это исчезает под грубым воздействием жизненной обыденщины" [53]. Однако "детскость" в русской душе остается. "Этой душе присущ идеализм в высшей степени. Пусть западник не верит в чудо, сверхъестественное, но он не должен дерзать разрушать веру в русской душе, так как это идеализм, которому... предопределено спасти Европу" (Х, 450). Мы считаем возможным сделать вывод, что Чехов искал выход и не исключал возможность такого выхода в обращении к Богу. Именно религиозное сознание давало возможность единения, создавало образ "общей идеи", делало жизнь осмысленной. Не абсолютизируя этого пути, приведем в заключение слова самого писателя: "Между "есть бог" и "нет бога" лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-нибудь одну из двух этих крайностей, середина же между ними ему неинтересна, и он обыкновенно не знает ничего или очень мало" (Х, 461), в то время как "нужно веровать в бога, а если веры нет, то не занимать ее место шумихой, а искать, искать, искать одиноко, один на один со своей совестью..." (XII, 423). |
|
|
Tusik Кандидат Группа: Участники Сообщений: 1488 
|
Добавлено: 03-12-2007 11:00 |
|
Несправедливость? Или, почему так? Когда я делаю работу долгое время - я медленный! Когда шеф - он щепетильный! Когда я не делаю работу - я ленивый! Когда шеф - он слишком занят! Когда я делаю что-то по собсной инициативе - я выёбываюсь! Когда шеф - он инициативный! Когда я хвалю своего шефа - я лижу жопу! Когда шеф хвалит своего шефа - он сотрудничает! Когда я делаю че-нить хорошее - шеф никогда не помнит! Когда я делаю плохое - шеф никогда не забывает! Когда меня нет в офисе - я шатаюсь где-то! Когда шефа нет - он на встрече! Когда я ошибаюсь - я дебил безмозглый! Когда шеф - он тоже человек! |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 03-12-2007 13:18 |
|
Луи Арагон ТЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ Когда передо мной самые плохонькие сочинения, банально беспорядочные или трогательно наивные, но я при этом способен осознать, что передо мною все-таки сочинения, именно это свойство - придуманность, изобретенность - поражает меня, как бы эфемерны и нелепы они ни были; и мое сердце уже не может оставаться равнодушным. Я много раз испытывал паническое чувство на Выставках Конкур Лепин, куда я возвращаюсь, сам не знаю почему, каждый год и прогуливаюсь среди изобретений: дурацких игрушек и удивительных приспособлений, что оказывают весьма сомнительную службу домашним хозяйкам. Чайные ситечки, розетки подсвечника на пружине наводят на меня порой непреодолимый ужас. В такие минуты я пытаюсь представить себе человека, придумавшего все это, и спокойно опускаюсь в пропасть. Открытие - интеллектуальный удар грома, оно не соизмеримо ни с порождаемой им любовью, ни с ее разрушительной силой. Тот же механизм действовал и при открытии лампы Галилея, и при создании игрушки - деревянных дровосеков, рубящих по очереди ствол дерева. Возникает чудесное, оно не прекращает существовать благодаря имагинативной длительности, в процессе которой кажется, что дух продуцирует из самого себя некий принцип, который не был в него вложен изначально. Универсализация открытия, то есть признание его ценности, какой бы неожиданной она ни оказалась, всегда остается ниже момента мысли. Судья, умеющий останавливаться только на последствиях, рискует уменьшить эффект, производимый мыслью; нет сомнения, что Гегель предпочел бы яблоку Ньютона ту сечку, которую я видел вчера у торговца скобяным товаром на улице Монж, ее реклама убеждала, что "эта уникальная сечка открывается, как книга". На перекрестке грез, куда приходит человек, не ведая о продолжении своей долгой прогулки, прекрасное безразличие золотит отсветы универсума. Когда на первом плане наших воспоминаний возникают полезные изобретения, прославлены будут исключительно они прежде всего и всегда, но обратите внимание на их тень: не в ней ли их истинная природа? В тот момент, когда формируются тени, эти машины практической жизни еще только пробуждаются с неубранными волосами сна, с безумными глазами, еще не адаптированными к миру, что делает их близкими простому поэтическому образу, скользящему миражу, из которого они едва ли вышли, еще не протрезвев. И тут сам инженер начинает отрекаться от своего гения, он снова берет эту галлюцинацию и, так сказать, калькирует ее, переводит, ставит на расстояние протянутой руки неверующих. Потом, в свою очередь, вмешивается опыт. Но на той необъяснимой стадии, в той таинственной точке, где чистое изобретение не продиктовано ни использованием, которое ему уготовило будущее, ни медитативной необходимостью, в тот миг, когда изобретение только появляется на свет, едва начиная осознавать себя, когда оно чуть-чуть приподнимается, оно являет собой некое новое отношение, безумие, которое позже превратится в реальность. Загадка, аналогичная заре. Вы призываете на помощь понятие случайности, но это доказывает, что вы всего лишь пасуете перед запутанностью и случайностями самого воображения; однако вы прекрасно видите, что я способен их вообразить. Другое решение - частное применение общего закона - не лучше. Согласование изобретения и закона происходит последовательно, когда дух входит в свои права и утверждается. Знал ли мелкий ремесленник, закрутивший первым вокруг оси с орнаментом красную рыбку металлического полукруга, вращение которого образует удивительный бокал сияющей и настоящей воды, знал ли он о стойкости впечатлений, отложившихся на сетчатке глаза? И думал ли он о своих доходах? Я осмелюсь предположить, что он был одержим идеями движения и воды - действующей метафоры, в которой сочетались браком прозрачность и отблеск. Абстрагировать и изобретать - действия, совершенно противоположные друг другу. Изобретение может быть только в сфере частного. Я все больше убеждаюсь в верности этих предположений. Но меня сдерживают распространенные ложные представления об абстрактном, конкретном и различных других способах познания. Надо сказать, что некоторые умы, лучшие умы, прекрасно поспособствовали смешению этих понятий. В отличие от моей точки зрения, возобладало парадоксальное мнение: обыденное познание абсолютно конкретно и, следовательно, абстрактное является прогрессивным шагом вперед по сравнению с ним. Итак, если я анализирую идеи, сформированные мною относительно любого предмета, когда мне это заблагорассудится, я всегда нахожу подходящее слово. Противопоставление научного и обыденного познания - ошибочно, ибо они оба почти одинаково абстрактны и различаются лишь тем, что научному познанию удалось избавиться от некоторых безосновательных мнений, которые перегружали первичную абстракцию при ее рождении. Философское познание, если таковое действительно заслуживает этого названия, действует иначе: объекты, идеи представляют собой вовсе не пустые абстракции или смутные мнения, но они обретают некое абсолютное содержание, когда реализуется в сфере особенного, при своем минимальном распространении; то есть речь идет об объектах и идеях в их конкретной форме. Не трудно заметить: это не что иное, как образ, который и есть способ познания поэтического, ибо поэтическое - это способ познания. В этом смысле философия и поэзия - одно и то же. Конкретное - это последний момент мысли, подобное состояние конкретной мысли и есть поэзия. Можно легко понять, что я подразумеваю под формулой "изобретение возможно только в сфере частного": конкретное является самой материей изобретения, а механизм изобретения сводится к механизму поэтического познания, то есть к вдохновению. Обыденное познание происходит в соответствии с некими постоянными отношениями и сопровождается суждением о тех абстракциях, которыми она манипулирует: это суждение есть реальность. Однако идея реального чужда всякой истинной философии. Было бы безумием приписывать конкретному понятию то, что свойственно абстракции, которую считают идеальной с точки зрения духа. Отрицая реальное, философское познание устанавливает прежде всего новое отношение внутри своего материала - это отношение ирреального: и тогда изобретение, например, сразу передвигается в область ирреального. Потом оно, в свою очередь, отрицает ирреальное и преодолевает обе эти идеи, воспользовавшись последним средствам, благодаря которому они одновременно отрицаются и утверждаются, что примиряет и поддерживает их: это последнее средство - сюрреальное, которое представляет собой также одно из определений поэзии. Итак, изобретение - это установление сюрреального отношения между конкретными элементами, механизмом изобретения является вдохновение. Возможно, вы уже знаете, что поиск сюрреального, методы утверждения его доминирующей роли приняли в повседневном языке имя сюрреализма. Немного поразмыслив, вы научитесь различать, какие изобретения являются чисто сюрреалистическими. Сюрреальная природа установленного отношения в некотором смысле очевидна, несмотря на деформацию, с точки зрения практического применения. Подобные изобретения хранят следы различных моментов жизни духа и его исканий: размышление над реальным, его отрицание, его примирение и абсолютный посредник, объединяющий рассмотрение, отрицание и примирение. Философские изобретения - предмет постоянных острот со стороны черни, которую разочаровывают противоречия, она даже изобрела смех, чтобы с честью выходить из положения в присутствии противоречий. Это тот юмор, что фальшиво позванивает колокольчиками в человеческом стаде. Однако есть и другой юмор: юмор как определение поэзии, в том случае если она устанавливает сюрреальное отношение в его полном развитии. Именно это свойство юмора, вероятно, и делает изобретение сюрреалистическим. Следовательно, в подобном изобретении поражает вовсе не его полезность, которая не способна объяснить сюрреального; полезность только еще больше нас запутывает, тем более что сама постепенно сходит на нет. Такое изобретение невозможно передать и через понятие игры. Игра не подходит: игровая деятельность не способна удовлетворить породивший ее ум. Прекрасно понимая ход игры, ум не способен отделиться от ее тайны, он завяз в области странного, как в болоте, он больше не верит в порожденную им игру. х х х Отличительные признаки подобной изобретательной выдумки, способной изменять свой темп, функции своих элементов, направляя их к не формулируемой цели, во имя торжества этого юмора, что представляется только для дураков внешне противоречивым и порой даже смешным, - я нахожу эти признаки в целом ряде маневров, ставящих под вопрос значение небольших привычных объектов и никогда не бывших поводом для скептицизма. Таковы предметы нашей общественной игры, например: носовой платок, спичка, веревка, ключи… которые не вызывают ни смеха ни слез, мы почти не смотрим на них, лишь изредка берем в руки, и первоначально они кажутся безразличными духу. И я брошу вызов тому, кто посчитает возможным анализировать заключенный в них разумный интерес. Это чистые продукты воображения, это само воображение, а значит, они должны ускользать от разумения. Так, установленная на тротуаре спичка подобно комете запускается в комнату одним-единственным щелчком; а если три спички поставить портиком на спичечную коробку и зажечь посередине поперечную спичку, то вся конструкция полетит, и т. д. Чистые изобретения, для которых никто не ищет ни утилитарного применения, ни даже иллюзии применения, и являются непосредственным воплощением сюрреалистического юмора вне его специальных мизансцен. Это не игры, но философские деяния первой величины. (В первую очередь, отрицается реальность спички как спички, утверждается ее ирреальность, и эта спичка, следовательно, может быть чем угодно другим - деревом, ракетой, песенкой; далее, ее применение можно извратить, вывернуть, и она будет относиться к сфере деятельности, которая неизвестна сама себе, это будет новое, неопределенное, само себя изобретающее, то есть сюрреальное применение, и именно тогда возникнет иллюзорное объяснение этого факта как игры, примиряющей противоречивую суть спички для внешнего наблюдателя, однако это объяснение должно на самом деле уступить дорогу поэзии, единственной правдоподобной интерпретации этого щелчка - вон из реальности.) |
|
|
Tusik Кандидат Группа: Участники Сообщений: 1488 
|
Добавлено: 05-12-2007 23:19 |
|
Мужик просыпается в три часа ночи от телефонного звонка, глаза кое-как продрал, снимает трубку: - Алло!?...То есть как это пошел на @#$?!!! - Алле! Это ваpеничная? - Hет! Сливочная? - Сливки чтоль делаете? - Hет гавно сливаем... - Алло, это телефон 444-44-44? - Да. - Позвоните, пожалуйста, 03 - у меня палец застрял... - Алло, это семь-семь-семь-семь-семь-семь-семь? - Да. - Я ох$еваю.. - Але, это 48-48-48? - Да?.. - А у вас мазь езь? - Езь! - Зашибизь!.. - Але, это 48-48-48? - Да! - А вы телефон поменять не могли бы? Запоминается трудно!.. Усталый муж возвращается домой и говорит жене: - Кто бы ни звонил, меня нет дома. Раздается звонок. Жена берет трубку: - Муж дома! Муж срывается с кресла и подбегает: - Я же просил... - Не сердись, дорогой, звонили не тебе! Глубокой ночью телефонный звонок. Сонный голос отвечает: - Алло... - Это 24-56-76? - Вы что, с ума сошли? У меня вообще нет телефона!!!!!!! Секс по телефону. - Я чувствую твои губы и руки... Бaрхaт твоей кожи... Я зaдыхaюсь... ещё немного и .... - Подождите минуточку! У меня чaйник зaкипел! |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 06-12-2007 08:51 |
|
Советский денди. Сюжет для небольшого романа Петр Багров — Это Гамсун? — Нет, это комсомолец Гриша Фокин! Из одного советского кинофильма Он очень любил фотографироваться. И умел. К шестидесятым годам фотографироваться научились уже многие, почти все. Но Юткевич умел фотографироваться и в 1920-е, и в 1930-е, и даже в 1940-е, когда жанр фотопортрета фактически исчез. Чтобы хорошо получаться на фотографии, нужны два качества: внутренняя гармония и артистизм. Редкое сочетание. Оно безусловно присутствовало у Эйзенштейна — вот, кстати, кто замечательно получался на пленке. Фотографии напоминают кадры, вырезанные из кинохроники. Собственно, именно на кинопленке Эйзенштейн смотрелся органичнее всего — причем, где бы вы ни сделали стоп-кадр, всюду получится прекрасная фотография. Как в классическом балете. У Юткевича же принципиально статичные фотографии. Даже когда он разговаривает или танцует. Ничего общего с парадными портретами на досках почета. Очень обаятельное и даже трогательное выражение лица — редкое выражение: по-мальчишески самоуверенное, но «припудренное» легкой застенчивостью. Порой он улыбается. Но чаще всего на портретах этих — полуулыбка. Она очень идет Юткевичу, и он сам это чувствует. И потому — еще более обаятелен. Чуть небрежно отогнут ворот пальто, рубашки или шубы, по обстоятельствам; голова чуть повернута или наклонена набок, рука изящно покоится на спинке дивана или кресла (эта поза особенно удается Юткевичу). Общие пропорции парадного портрета соблюдены, но все чуть-чуть смещено — отсюда и возникает неповторимая грация. Чуть-чуть… «В искусстве важно «чуть-чуть». Чуть больше — и стало грубо, чуть меньше — и невыразительно… — Он делал паузу и, картинно щурясь от дыма, продолжал. — Надо уметь к каждому эпизоду подобрать свой ключик…» Это Григорий Чухрай о Сергее Юткевиче, своем учителе по ВГИКу. Действительно, в киноискусстве Юткевич придерживался примерно тех же принципов, что и в своем внешнем облике. Да, вот еще! Перед тем как окончательно перейти к вопросам киноискусства, нужно сказать несколько слов про шарфы и темные очки. Шарфы ведь очень мало кто умел носить в Советском Союзе. Даже Козинцев не умел. Опять же, Эйзенштейн носил шарфы, но у него это получалось как-то смешно, чересчур эксцентрично. Юткевич обращался с шарфом более талантливо. При этом вовсе не обязательно было замысловато закидывать его за спину — шарф мог просто висеть на шее, получалось естественно и элегантно. А первая известная историкам киноискусства фотография Сергея Иосифовича в темных очках относится еще к периоду работы над «Встречным» — картиной, от которой ведется отсчет социалистического реализма в советской кинематографии. Затем с каждым годом портретов в темных очках становилось все больше. Правда, на первых порах, очки всегда покоились на лбу. Но к шестидесятым годам Юткевич понял, что нет никакой необходимости снимать темные очки, когда фотографируют: на результат это мало влияет. Действительно, если всмотреться, то глаза на всех фотографиях — пустые. Поза есть, а взгляда — нет. «Трагическая фигура <…> мой друг С. И. Юткевич. <…> По малолетству он еще ничего не имел сказать, <…> а техника у него была почти зрелого художника, т. е. произошло размыкание: получилась беспредметная игра формами, которые служат вообще для выражения не только содержания, но для выражения индивидуальности художника. Вот то, что он овладел техникой раньше, чем было чего высказать, это размыкание до известной степени осталось на нем, как большой трагический отпечаток. У него никогда нет слитности и единства творческого процесса, где замысел и желание росли бы вместе с возможностью выражать, потому что [таков] единственно органический подход. <…> Т. е. в картинах Юткевича не чувствуется непосредственно индивидуальность, а между индивидуальностью и видом его произведений лежит какая-то грань». Это сказал о Юткевиче Сергей Эйзенштейн: они вместе начинали в ГВЫРМе у Мейерхольда, вместе оформляли спектакли в театре Фореггера и других московских театриках начала 1920-х годов. Юткевич действительно был интересным художником. Смелым. Тяга к гротеску, эпатажу, народному театру в сочетании с высокой образованностью, хорошим художественным воспитанием (тут и старые мастера, и «Мир искусства», и «Бубновый валет», и что угодно — двадцатые годы же!) — все это давало интересный эффект. Юткевич постоянно экспериментировал и нашел адекватный язык и для театральной живописи, и для книжной графики, и, наконец, для кино. Он оформил всего две картины: «Предатель» и «Третья Мещанская» — обе режиссера Абрама Роома. Это были очень разные картины, мелодрама эксцентрическая и мелодрама бытовая. Работа художника в обеих картинах была безупречной, и Юткевич мгновенно занял ведущее положение среди московских кинохудожников. Впрочем, это уже 1926–1927 годы. А перед этим Сергей Юткевич два года с увлечением ставил скетчи на злободневные политические и социальные темы в живых газетах «Смычка» и «Синяя блуза». Работал с полной отдачей, весело, изобретательно, талантливо. Программа обновлялась регулярно, и нужно было каждый раз найти новую, интересную, яркую форму. Юткевич — вне всякого сомнения — самый талантливый режиссер за всю историю «Синей блузы». Ведь это задача не из легких: превращать газетные передовицы в произведения искусства. Юткевич справлялся с этой задачей: он прекрасно чувствовал форму. Эйзенштейна форма интересовала ничуть не меньше, но главной задачей для него все же оставалось найти нужное содержание. Именно это выдвигалось на первый план. И, наверное, еще в 1923 году решение поставить пьесу С. Третьякова «Противогазы» непосредственно в цехе настоящего газового завода не способствовало эстетическому изяществу представления, но оказалось для Эйзенштейна первой ступенью к новому пониманию театрального искусства. За те два года, что Юткевич проработал в живых газетах, Эйзенштейн поставил два фильма: «Стачка» и «Броненосец «Потемкин». В своей первой большой картине «Кружева» (до этого, еще в 1925 году, была короткометражка «Даешь радио!», не особо получившаяся и, судя по всему, так и не увидевшая экрана) Юткевич и не думал решать философские задачи. Как он сам позже признавался, его пленила «необычная фактура кружевного производства». Название было выбрано очень точно. Это во всех смыслах — кружева. Вязью плетет кадр за кадром оператор Евгений Шнейдер. Вязью монтирует картину Юткевич. Динамически фильм выстроен безупречно: от слаженности актерской работы получаешь наслаждение — и это при том, что психология в картине отсутствует начисто. Сказывается опыт «Синей блузы» и «танцев машин» Фореггера. В 1970-е годы Юткевич озвучит картину, и музыкальные кружева, переплетаясь с монтажно-фотографическими, войдут в ткань фильма ладно и обаятельно. Но самое поразительное, что в картине отсутствует не только фабула — это как раз бывает часто, — но и собственно сюжет. В картине нет содержания. Кружева не на что надеть. И это действительно трагедия. Не знаю, ощущал ли ее таковой сам Юткевич, но безумно жаль, когда такое виртуозное владение кинематографическим мастерством, такое тонкое понимание природы кинематографического растрачивается впустую. «Кружева» — наверное, один из самых уверенных и эффектных дебютов в советском кино. Картина блестящая. Но стреляет холостыми. Фильм вызвал скандал. В прессе разразилась полемика. Одни восхищались мастерством Юткевича, другие обвиняли в формализме. В результате режиссера выгнали с московской фабрики «Совкино». В общем-то, ему это было на руку: он перебрался в Ленинград — рассадник формализма. Это было логично: ведь Юткевич был настоящим, убежденным, законченным формалистом. В Ленинграде формалистов было больше всего. Прежде всего, конечно, ФЭКСы, Козинцев и Трауберг. Что есть «Чертово колесо», как не опыт создания уголовной современной мелодрамы? А «С. В. Д.» — мелодрамы романтической, костюмной? А «Шинель» — опыт перенесения литературного стиля на экран. Только в «Новом Вавилоне» режиссеры отчетливо сформулируют настоящее содержание картины: краткий миг свободы и цена, которую нужно за это заплатить. И только тут поймут, что об этом и делали все свои фильмы. И тем самым излечатся от формализма раз и навсегда. Несмотря на всю любовь к форме! У Юткевича такого прозрения так и не наступило. Да и не могло наступить. У него не было своей темы. Он мог загореться тем или иным материалом, но не потому, что там ставились волнующие его философские проблемы, а потому, что вставала интересная и трудная задача: challenge по-английски — гораздо более емкое и точное понятие. Как это осуществить в кино (или на сцене)? Как это будет выглядеть? Какую это примет форму? А что такое «это» — уже не столь важно. От того, что не знаешь, еще не чувствуешь пока — даже интересней! Оттого и приход звука Юткевич принял радостно и безоговорочно: еще один компонент киноязыка, неизвестный, неразработанный. Уж с ним можно поэкспериментировать вволю. И, надо сказать, «Златые горы», вышедшие в тот же год, что и «Путевка в жизнь» и «Одна», — едва ли не самая изобретательная звуковая картина начала 1930-х годов. Юткевич умел и любил подбирать сильный коллектив. У него было хорошее чутье, и коллектив подбирался не только сильный, но и стильный. Искусство не менее сложное, чем искусство одеваться, между прочим. И на этот раз он пригласил не только молодого Дмитрия Шостаковича, но и звукооформителя Театра Мейерхольда Лео Арнштама — на доселе неведомую должность «звуко-режиссера». И втроем им удалось создать картину совершенно нового, до той поры не существовавшего жанра — «кино-симфонию». Это была изящная (именно изящная) психологическая драма из жизни рабочего класса — произведение поверхностное, но виртуозное и эффектное. Замечательный пример: огромная пятиминутная сцена, в которой хозяин завода, чтобы задобрить рабочих, дарит одному из них золотые часы за образцовую службу, — целиком построена на произведении такого, казалось бы, строгого и условного жанра, как вальс. К концу 1920-х годов стало модным говорить, что монтажное кино изжило себя, что игра формой заслоняет идейный смысл фильма. На советское кино, как саранча, надвигалась туча серых прямолинейных агиток. На этом фоне обе картины Юткевича — «Златые горы» и «Встречный» — смотрятся на редкость приятно. Да, именно «приятно». Что называется, радуют глаз. Ни больше ни меньше. Юткевич не раз попадет в безвыходное положение и каждый раз будет чудом выходить сухим из воды. Но самый главный и страшный удар в своей жизни он так никогда и не осознал. Постановление 1932 года о перестройке литературно-художественных организаций утвердило в советском искусстве единый метод социалистического реализма. Причем не только метод, но и стиль, по сути. Это означало — конец формалистам. Юткевич никогда сам себя формалистом не считал и страшно обижался, когда его таковым называли. Тем более в 1932 году, когда эталоном соцреализма в кино был объявлен «Встречный». Через два года «Ленфильм» выпускает «Чапаева», затем появляются «Юность Максима», «Семеро смелых», «Депутат Балтики», студия получает орден Ленина, диплом на Московском международном фестивале и негласно признается лучшей киностудией страны. Причем «духовного лидера» у студии нет. В какой-то мере таким лидером, как это ни парадоксально, можно считать работающего в Москве Эйзенштейна. Лидером весьма специфическим; ленфильмовцы проходят несколько стадий: от безоговорочного приятия всего творчества Эйзенштейна до острой полемики с ним. Им есть чем гордиться: у Эйзенштейна, конечно, за плечами «Потемкин» — но это давно, десять лет назад, а у них — по нескольку шедевров в год. Это именно они осуществили тот самый «эксперимент, понятный миллионам»! На первом всесоюзном совещании творческих работников советской кинематографии в 1935 году ленфильмовцы со всей яростью нападают на бывшего «властителя дум»: тут и скандальный Леонид Трауберг, и, казалось бы, абсолютно мирный Сергей Васильев, и прежде всего, конечно, Юткевич. Претендентов на престол не наблюдается, и Сергей Иосифович с элегантной небрежностью надевает шапку Мономаха. Она вовсе не тяжела для Юткевича: в головных уборах он разбирается не хуже, чем в шарфах. Понятно, почему Юткевич возглавляет антиэйзенштейновскую коалицию (оставаясь, вроде бы, его другом): начинали они вместе, да и рисовал Юткевич виртуознее на первых порах. И как это получилось, что Эйзенштейн достиг таких высот? Уж теперь можно наверстать упущенное. За Эйзенштейном — прошлое, монтаж аттракционов. За Юткевичем — настоящее, социалистический реализм. Эйзеншейн — сам за себя. За Юткевичем — «Ленфильм». (Самое любопытное, что линия «Встречного» на самом деле продолжения не получила: каноны «Ленфильма» 30-х годов сформулировали «мальчики» Зархи и Хейфиц в картине «Моя Родина». Но на это все закрывали глаза: «Моя Родина» давно лежала на полке.) Нужно понимать, что социалистический реализм — последнее, к чему стремился Юткевич во «Встречном». Вероятно, он и сам это чувствовал. И оттого еще более цепко держался за не вполне законную корону. Правда, других желающих особо не наблюдалось: и ФЭКСы, и братья Васильевы, и даже Эрмлер (тоже, между прочим, автор «Встречного») вовсю работали над картинами, а Сергей Иосифович простаивал. А простаивал он потому, что на самом деле никак не мог вписаться в этот злосчастный соцреализм. Когда все причесывается под одну гребенку, противостоять этому может только художник страстный, художник, у которого есть «своя тема». О чем бы ни делал кино такой художник, всегда эта тема пробьется наружу и произведет тем самым, быть может, даже более сильный эффект — как сейчас сказали бы, на «архетипическом» уровне. У Юткевича такой темы не было и быть не могло. А он, по природе своей, не мог не быть в авангарде — куда бы ни направляли этот авангард. Вот тут и начинается «общественно-политическая» карьера Сергея Юткевича: для многих она навсегда затмит его фильмы. За что только не брался Сергей Иосифович, какие посты не занимал! Ни одно мало-мальски заметное собрание творческих работников в следующие пятьдесят лет не обошлось без фундаментального выступления Юткевича. Сколько предисловий он написал! Сколько собственных книг — больше, чем Козинцев и Эйзенштейн! В 1939 году он вступает в партию. Рекомендации написали Евгений Еней — венгерский коммунист, участник Гражданской войны, и Фридрих Эрмлер — бывший чекист. Каким ветром занесло сюда этого «мальчика из интеллигентной семьи»? Вскоре он перебирается в Москву и с ходу становится художественным руководителем «Союздетфильма». Но были у Юткевича должности и вовсе экзотические. Тогда же, перед самой войной, Юткевича назначают главным режиссером ансамбля песни и пляски НКВД СССР, созданного по инициативе Берия. Другой бы отнесся к этому как к трудовой повинности. Юткевич засучивает рукава: он заявляет начальству, что нужны первоклассные драматурги, и специально из ссылки возвращают в Москву Михаила Вольпина и Николая Эрдмана. Балетмейстерами назначают Асафа Мессерера и Касьяна Голейзовского. Музыку пишет Шостакович. Декорации — Петр Вильямс и Вадим Рындин. В постановках танцев Юткевич применяет опыт работы в театре Фореггера, в «Синей блузе»… Короче говоря, в ансамбле песни и пляски НКВД образовался островок 1920-х годов. К слову сказать, Эйзенштейн тоже приблизительно в это же время готовил музыкальное представление: он ставил «Валькирию» в Большом театре. Одновременно Юткевич получает звание профессора, набирает курс во ВГИКе и становится заведующим кафедрой актерского мастерства. Без защиты диссертации ему дают степень доктора искусствоведения — при том, что пока он еще не написал ни одной книги (ничего, это он наверстает после войны). Докторская степень и профессорство были особенно важны для Юткевича: Эйзенштейн получил их двумя годами раньше. Островок 1920-х годов… Такие островки Юткевич пытался обустроить везде, куда бы ни заносила его судьба. Один из таких островков занимает едва ли не самую привлекательную страницу советского кино второй половины 1930-х годов. Речь идет о «Первой художественной мастерской под художественным руководством С. Юткевича», созданной в конце 1934 года. К началу 1930-х все киномастерские (такие, как ФЭКС, КЭМ или коллектив Кулешова) давно уже закончили свое существование, ибо и кинематографисты не избежали своего рода «коллективизации», вступая в стройные ряды творцов социалистического реализма. И создание в таком «колхозе» обособленной группы можно было воспринимать даже как своеобразный вызов. Тем более что публика там собралась чрезвычайно эстетская. Среди участников мастерской были режиссеры Лео Арнштам, Эраст Гарин, Хеся Локшина — все, кстати, ученики Мейерхольда (как и сам Юткевич); актеры Борис Пославский, Степан Каюков, Василий Меркурьев, Борис Чирков, художник Моисей Левин, драматурги Алексей Каплер, Николай Погодин, Лев Кассиль. Первым делом оборудовали помещение в старом фотоателье под самой крышей огромного по тем временам девятиэтажного дома. Крыша была стеклянная, с дырками. Отопления не было. И новоиспеченные студийцы, как в добрые старые послереволюционные времена, принялись выискивать материалы для починки крыши, покупали печки-»буржуйки". Арнштам раздобыл у какой-то старушки «из бывших» рояль «Бехштейн». Под тон роялю со складов «Ленфильма» взяли напрокат стулья-кресла карельской березы. В противовес такому аристократическому убранству Юткевич, вспомнив свое прошлое художника-авангардиста, соорудил систему кубов разной величины, раздвигающихся занавесей и деревянных площадок. В такой эклектичной обстановке и проходили репетиции всех сцен. И, действительно, из всего этого родилась, казалось бы, навсегда ушедшая атмосфера «студийности», с которой в двадцатые годы начинался кинематограф для Козинцева, Трауберга, Эрмлера и прочих. Все правильно говорил Эйзенштейн: у Юткевича не было «чего сказать». Зато он мог собрать тех, кому было что сказать, и стать, таким образом, их вождем и учителем — очень заманчивая перспектива. Под маркой мастерской Юткевича вышли легендарная «Женитьба» Гарина и Локшиной, «Подруги» Арнштама, прелестная комедия Казанского и Руфа «Тайга золотая». В планах стояли «Поединок» Куприна (с Гариным в роли Ромашова — что могло бы получиться!) и «Клоп» Маяковского… На съемках фильма Э. Гарина и Х. Локшиной "Женитьба" Но «Женитьбу» сняли с экрана в разгар кампании по борьбе с мейерхольдовщиной, из сценария «Тайги золотой» пришлось убрать всю эксцентрику, «Клоп» был закрыт еще на подготовительном периоде. В конце концов мастерская распалась. И в этом, конечно, нет ничего странного. Ну на что рассчитывал Сергей Иосифович, запуская «Клопа» в 1937 году? И судьбу «Женитьбы» тоже можно было предугадать. Не мог Юткевич, державший нос по ветру, не понимать этого. И понимал, наверное. Но формализм был у него в крови. Быть может, он и не разделял гаринской трактовки Гоголя, но чувствовал, что вещь будет в высшей степени оригинальна. А экранное воплощение «Клопа» было задачей неимоверной сложности — а чем сложнее, тем привлекательней. Природа, как известно, берет свое. И Юткевич, любивший властвовать, руководить, получать звания, благополучный Юткевич — играл ва-банк. Пускай он стремился лишь к внешнему эффекту, к выпендрежу — это слово все время вертится на языке, пора его произнести. Но выпендреж в 1937 году — это поступок. Пожалуй, даже подвиг. «Безумству храбрых поем мы песню!» — это про Вас, Сергей Иосифович. Без всякой иронии. Но вернемся к ансамблю песни и пляски. Замечательная особенность дарования Сергея Юткевича — умение сделать произведение искусства из материала, искусству противопоказанного. Ансамбль — далеко не единственный пример. Когда в 1945 году Юткевичу предложили экранизировать отчетный концерт художественной самодеятельности общества «Трудовые резервы» — казалось бы, гиблое дело, — он позвал сценаристами тех же Эрдмана и Вольпина, которые придумали глупый, но изящный сквозной сюжет и написали остроумные диалоги, взял оператором Марка Магидсона, подобрал хороших актеров. |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 06-12-2007 08:55 |
|
И получился фильм «Здравствуй, Москва!» — одна из самых симпатичных картин 1940-х годов. Фильм живой, веселый и начисто лишенный «советской власти», хотя имя Сталин и упоминается неоднократно. Талант! Изящно была сделана агитационная короткометражка «Как будет голосовать избиратель». Эксцентрический монтаж и живая авторская интонация Анатолия Кторова за кадром сделали «Освобожденную Францию» некоторым событием в отечественной документалистике — кстати, именно эти принципы через двадцать лет довел до совершенства Михаил Ромм в «Обыкновенном фашизме». Смонтированные Юткевичем цветные кадры первомайского парада, вышедшие на экран под названием «Молодость нашей страны», вызвали восторженную реакцию Анри Матисса. А на родине — Сталинская премия, тоже хорошо. Правда, если картина имела большее политическое значение, чем концерт «Трудовых резервов», то к формалистическим изыскам относились крайне настороженно. Юткевич всю жизнь гордился тем, что знаменитая «ретроспективная» драматургическая конструкция «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса была впервые применена им, Юткевичем, в картине «Яков Свердлов». Сталину картина понравилась, но он потребовал смонтировать сцены не в «эмоциональном», а в хронологическом порядке. Не выпендриваться, короче говоря. И Кторова, между прочим, в упоминавшейся «Освобожденной Франции» заменили на канонического Леонида Хмару. И так одергивали Юткевича практически каждый раз. Боже мой, сколько гарантированных Сталинских премий уплыло у него прямо из-под носа — минимум четыре (две у него все-таки были, так что, учитывая еще две Государственные, которые ему дадут за «лениниану», вполне можно было переплюнуть Пырьева и Райзмана). И Юткевичу ничего не стоило получить эти премии: надо было просто «снять попроще». А он не хотел «попроще». Или не мог. Пожалуй, апофеоз Юткевича сталинских времен — картина «Свет над Россией», экранизация «Кремлевских курантов» Погодина. Вполне изящная экранизация, с прекрасными работами Николая Охлопкова и Вениамина Зускина, чуть стилизованно снятая тем же Магидсоном. Но здесь Юткевич перегнул планку: чтобы якобы дать почувствовать «дух революционного времени», он перенес свидание Маши Забелиной и матроса Рыбакова в кафе поэтов. И практически целиком показал представление «Незнакомки» Блока — в манере 1918 года (сам Юткевич еще с тех пор мечтал поставить блоковские драмы в театре). Это был перебор. Картина легла на полку, а Юткевич оказался в серьезной опале. Кстати, именно к периоду съемок «Света над Россией» относится приведенный выше рассказ Григория Чухрая о «чуть-чуть» и о «ключике» к каждому эпизоду. История имеет продолжение: «Я слушал и восторгался его внешностью и поведением рафинированного интеллигента. Но вдруг за декорацией торопливо простучали женские каблучки. Юткевич вскинулся и закричал: — Какая там сука ходит! И все… Юткевич померк в моих глазах». Чухрай не был одинок. Обаяние фотопортрета незыблемо. Оригинал был все-таки живым человеком. И огромное напряжение борьбы на два фронта, постоянное ожидание страшного финала, наконец, ощущение неестественности своего положения в кинематографе (и, тем более, того обстоятельства, что ощущал это не он один) — все это, конечно, давало себя знать в поведении действительно рафинированного, образованного и обаятельного Сергея Иосифовича. Отчасти потому так радостно и дружно набросилась на него кинематографическая братия в дни печально известной кампании по борьбе с космополитами. Марк Донской кричал: «Отдай доктора!» — это, пожалуй, стало кульминацией. Но Донской был не одинок. И далеко не все выступающие говорили «из-под палки». Предки Сергея Иосифовича Юткевича были мелкими польскими дворянами, и в верхах об этом прекрасно знали. Но дело было не только в том, что уж больно «подходящие» отчество и фамилия, и даже не в том, что, действительно, была у Юткевича, по меткому выражению киноведа Евгения Марголита, «высокомерная язвительность талмудиста». Главных космополитов отбирали не только по национальному признаку, но и по формальному — нужно было покончить с остатками проклятого авангардного прошлого. А Юткевич всегда шел в авангарде. Многих сломала космополитическая кампания. Так никогда и не оправился после нее Трауберг. Юткевич выстоял и даже закалился. Посмотрите его фотографии начала 1950-х годов: он все так же мил и обаятелен. Эйзенштейн, на свое счастье, до борьбы с космополитами не дожил. Но фотографироваться все же разучился: на последних, послевоенных его снимках — усталый, напряженный человек. Легкость исчезла. У Юткевича легкость никуда не делась. Он постарел — это да. Лет до сорока выглядел он по-мальчишески. Теперь наконец стал похож на мэтра. Ну что ж, эта новая ипостась ничуть не хуже прежней. Итак, первый акт закончился. Второй будет гораздо менее драматичным. Но не менее эффектным. Занавес открывается — железный занавес, — и Юткевич выходит на мировую сцену. За границей и сегодня Юткевича знают лучше, чем, скажем, Эрмлера, Хейфица или Пырьева. Он попал на Каннский фестиваль в составе первой советской делегации еще в 1946 году. Следующий раз советские кинематографисты были выпущены на Запад только через восемь лет, опять в Канны. И Юткевич снова в делегации. Ничего удивительного, что из всех членов делегации (среди них Сергей Герасимов, Марина Ладынина, Александр Птушко, Михаил Калатозов, Фридрих Эрмлер — это в 1946 году, Григорий Александров, Акакий Хорава, Клара Лучко — в 1954-м) именно Юткевич оказался самой заметной фигурой. Посмотрите, опять же, на фотографию: все советские страшно зажаты, особенно мужчины. У всех на лице — совершенно одинаковая ослепительная улыбка, все одинаково держат руки, грудь колесом, только ордена на лацкане не хватает — словно для «Правды» снимаются. И лишь Юткевич абсолютно раскрепощен. И понятно почему: он наконец-то чувствует себя в родной стихии. Он в совершенстве знает французский, умеет держаться в любом обществе, он умудряется всегда быть в курсе всех новейших течений в искусстве. Он сразу же находит свой круг: Жан Кокто, Жан-Поль Сартр, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Фернан Леже. И становится их лучшим другом, отчего художественный вес Юткевича на родине сильно возрастает. Он очень гордился своими портретами работы Матисса и Пикассо. Любил на фоне этих портретов фотографироваться. Кстати, Матисс по его просьбе нарисовал сразу три портрета — для самого Юткевича и двух его дочек. Потом Кукрыниксы со свойственным им чутьем нарисовали совершенно гениальную карикатуру в манере одновременно Матисса и Пикассо и подписались: «Пур тус нотр ами, Серж Юткевич. Кукрыникссо. 1956, Москау». Интересно, знали ли об этой тесной дружбе сами Кокто, Матисс и Пикассо? То есть, безусловно, Юткевич им был интересен: все-таки цивилизованный человек из такой дикой и неведомой страны. Все советское было ново. И приз за режиссуру в 1954 году получает именно Юткевич — за фильм «Великий воин Албании Скандербег». Кстати, вот этот фильм наверняка бы получил Сталинскую премию. Но, к сожалению, Сталин умер. «Скандербег» — один из самых тенденциозных советских фильмов. Своеобразный осколок «большого стиля» сталинской эпохи. Очень смешно: хотя картина и рассказывает об албанской истории XV века, по ней можно четко проследить, с какими странами мы в 1954 году находились в дружеских отношениях, а с какими — на ножах. Решение жюри Каннского фестиваля кажется странным. Но здесь замешана не только политика. Действительно, страсть Юткевича к эффектности и зрелищности шла вразрез с общими тенденциями советского кино эпохи малокартинья. И на общем фоне картины Юткевича, и «Скандербег» в том числе, выделялись сильно. Между прочим, Юткевич — единственный советский режиссер, трижды удостаивавшийся приза Каннского фестиваля за лучшую режиссуру. Кроме «Скандербега», этот приз дали за «Отелло» в 1955 году — и за «Ленина в Польше» в 1966-м. Об «Отелло» много писать не приходится. Юткевич еще в 1937 году собирался экранизировать шекспировскую трагедию, но вместо этого был вынужден снимать «Человека с ружьем». Затем были эксперименты с вгиковскими студентами в 1941 году, затем — попытка постановки в театре Охлопкова. И вот наконец в 1955 году картина выходит на экран. Очень красивая картина, цветная. Монологи на фоне скал, бушующее море, трубы гремят, музыка Хачатуряна. Очень хорош Сергей Бондарчук в заглавной роли. Андрей Попов, казалось бы, создан для Яго. Но все равно получилась только грамотная экранизация. Современного фильма не вышло. Яго, запутавшийся в рыбацких сетях, — такими метафорами образца агиттеатра начала 20-х заполнена вся картина. Как-то не увязываются эти рыбацкие сети с развернутыми теоретическими статьями о «пафосе борьбы за правду». Вспомним слова Эйзенштейна: «у него никогда нет слитности и единства творческого процесса». Юткевич видел, что происходило вокруг И не только на Западе, но и здесь, в Советском Союзе. Кино наконец-то вновь обратилось к проблемам живым и насущным. Содержание было настолько новым и волнующим, что форма отошла далеко на задний план. И что же было делать Юткевичу? Он тоже перешел к глобальным философским задачам. Он должен был оставаться в авангарде. Итак, какую же выбрать тему, чтобы идти в ногу со временем, чтобы поднимать насущные жизненные вопросы, чтобы сохранить благоприятное положение в «верхах» и не потерять мирового престижа? Так возникает «лениниана». Пожалуй, один только Юткевич мог додуматься до такой гениальной идеи: взять, казалось бы, уж самую «официозную», сакрально-железобетонную тему и найти для этой темы сверхсовременное, даже модное решение. Причем Юткевич вовсе не рвался в Пигмалионы: он собирался делать современное кино про того самого, набившего оскомину монументального Ленина. Монумент был отлит еще в конце 1930-х стараниями Михаила Ромма и Бориса Щукина. Кстати, и сам Юткевич вместе с Максимом Штраухом внесли небольшую, но заметную лепту: сцена с чайником из «Человека с ружьем» сразу же стала канонической. Ленин давно уже превратился в комического персонажа: эксцентрического, вездесущего, хитроватого и очень обаятельного. Он давно уже перешел в фольклор, в анекдоты, причем, именно благодаря кино, как, кстати, и Чапаев (между прочим, про Сталина анекдотов никто не сочинял). Впрочем, об этом в свое время хорошо написал Евгений Марголит. Вот именно такого Ленина Юткевич и выбрал «Своей Темой». Удивительное дело: даже в дневниках и письмах Юткевич, только что газетным калейдоскопом 1920-х годов цитировавший западных философов, средневековых поэтов, упоминавший авангардных художников, — едва лишь заходит речь о Ленине, начинает писать штампами из передовицы «Правды»: «Образ этот неисчерпаем, как неисчерпаемо сердце народное в своей любви к этому величайшему Человеку. <...> Образ Ленина — самое дорогое, что есть в сердце советского человека». Напиши такую фразу Пудовкин или Довженко — можно было бы поверить в их искренность. Но Юткевич?! Да ладно искренность — как он не понимал, что эта фраза выбивается из общего стиля — из стиля его жизни? Здесь речь идет не о честности, а об элементарном чувстве вкуса. Порой и оно изменяло Юткевичу Типичный пример — с сетями в «Отелло». Или можно взять его позднюю картину «Сюжет для небольшого рассказа» (1966) — историю романа Чехова с Ликой Мизиновой. Картина — необычная, очень интересно задуманная. Желая дать контраст с «картонным, плоским и фальшивым миром», который окружает Чехова, Юткевич использовал «коллажный» метод: абсолютно реалистическая игра в сочетании с условными декорациями. Например, сестра Чехова поливает из настоящей лейки бутафорские грядки. (Похожий прием недавно применил Ларс фон Триер в «Догвилле».) Но почему-то Эйфелеву башню Юткевич решил обязательно снять в Париже. Равно как и интерьер Александринского театра снимался на месте, в Ленинграде. И то и другое очень красиво снято. Но в том-то и дело, что «красиво» для Юткевича часто заменяло «осмысленно». Но вернемся к Ленину. На самом деле, первые подступы к этой теме Юткевич предпринимал и раньше: те же «Человек с ружьем», «Яков Свердлов» и «Свет над Россией». Но началом «ленинианы» все же следует считать «Рассказы о Ленине» (1958). Майя Туровская и Юрий Ханютин писали про искусство Юткевича: «Оно, как стрелка компаса, повернуто в сторону нового. Не будем говорить модного — скажем современного». Блестящая формулировка: корректная, но с весьма прозрачным намеком. В «Рассказах о Ленине» это проявилось особенно заметно. Юткевич, пожалуй, единственный режиссер, отказавшийся от работы с Андреем Москвиным. Дело в том, что в разгар съемочного периода он посмотрел «Летят журавли». Картина еще не получила международного признания; мало того, неясно было, выйдет ли она вообще на экран. Но Сергей Иосифович почувствовал — вот оно, то самое, новое. Не будем говорить модное, скажем современное. А Москвин прекрасно понимал, что стиль Урусевского совершенно не подходит для «Рассказов». В результате на месте Москвина оказался Евгений Андриканис. Он снял картину эффектно, но порой нет-нет да и проскальзывают прямые цитаты из «Журавлей». Даже как-то неловко. Фильм был выдвинут на Ленинскую премию. Но вмешались «лениноведы», с которыми создатели картины не сочли нужным проконсультироваться. В результате — разгромная статья в журнале «Страницы истории КПСС». И шансы на премию испарились. На время Юткевич был отстранен от ленинской темы. Но он терпеливо ждал. И дождался. Картина называлась «Ленин в Польше», вышла она в 1966 году. Юткевич наконец-то нашел подход. В «Рассказах о Ленине» они со Штраухом мечтали показать: «Ленин думает», «Ленин и природа»… «Разгадка поэзией» — эти слова Толстого о работе над образом Петра Первого Юткевич часто цитировал. Все это выглядело страшно фальшиво. И получался эффект комический. И Юткевич пошел обратным путем. Он усилил эксцентрику, доведя ее до логического завершения. И на экране получился живой человек. Он ездил на велосипеде, играл в шахматы, ходил в синематограф, гулял с девушкой по горам. Аза кадром шел внутренний монолог Ленина — прием абсолютно неожиданный. Внутренний монолог — то есть поток сознания. До этого Ленин во всех фильмах разговаривал исключительно лозунгами, перемежая их «зернами народного юмора». Здесь Ленин заговорил по-человечески. Вспомнил Юткевич и Брехта с его концепцией «очуждения». И эксперимент удался. Во всех смыслах удался. Действительно, такого Ленина ни до, ни после в советском кино не было. Юткевич получил госпремию у нас, приз Каннского фестиваля у них. И при этом картина вошла в репертуар киноклубов, наряду с Тарковским, Бергманом и Висконти. А предметом особой гордости Сергея Иосифовича было то обстоятельство, что западные коммунисты картину ругали, зато крайние левые и крайние правые единодушно признавали победу Юткевича. Мало того, у Юткевича появились последователи. Впервые. Уже год спустя на экраны выходят «Шестое июля» Карасика и «На одной планете» Ольшвангера. Шестидесятники приняли в свои ряды экранного Владимира Ильича. И Сергея Иосифовича тоже. Так что вполне можно усидеть на двух стульях. Если постараться, то даже — с комфортом. Периодически Сергей Юткевич отвлекался от своей «главной темы». Он руководил студенческим театром МГУ, поставил там вместе с молодым Марком Захаровым «Карьеру Артуро Уи» — и замечательно поставил, вполне остро и современно. Еще в середине пятидесятых вместе с Валентином Плучеком поставил в Театре Сатиры «Клопа» и «Баню» — двадцать лет этих пьес не было на сцене. И оба спектакля стали заметными событиями театральной «оттепели». Затем перенес «Баню» на экран (вместе с Анатолием Карановичем) — получился вполне симпатичный авангардный мультфильм, — типичный авангардный мультфильм 1960-х годов. Интересно, почему Маяковского Юткевич никогда не пытался «разгадывать поэзией»? Он столько писал о своей любви к этому поэту, о его значении в своей биографии. Дмитрий Молдавский даже книгу про Юткевича назвал «С Маяковским в театре и кино». Но Юткевич совершенно не чувствовал поэзию Маяковского: все, что он пишет о нем, — абсолютно банально. «Маяковский смеется» — так называлась одна из последних картин Юткевича, и, похоже, только этот Маяковский и был ему доступен и близок. В начале 1980-х он наконец поставил «Балаганчик» и «Незнакомку» Блока — в Московском музыкальном камерном театре. И все же последняя, итоговая картина Юткевича (он сам это прекрасно понимал: ему было уже 77 лет, он много болел) вновь рассказывала «о самом главном» — «Ленин в Париже» (1981). Фильм смотрелся дико. Несмотря на всю изобретательность и оригинальность. Шестидесятники были людьми наивными и романтичными: их можно было сагитировать одними лишь средствами искусства. Поколение эпохи застоя было гораздо более циничным. Ну не мог уже образ Ленина на экране вызывать что-либо, кроме смеха. Но Юткевич снимал засучив рукава. Посмотрите на фотографии: он все так же обаятелен, элегантен и полон энергии. И писал он о работе над картиной все тем же кондовым языком передовицы «Правды» конца 1930-х годов. Тема Ленина в 1981 году звучала как кич. Так что Сергей Иосифович по-своему все еще шагал в авангарде. Кстати, за этот кич давали государственные премии. Ну, что ж: в этом весь Юткевич. Своим мемуарам «Дневник моих встреч» художник Юрий Анненков дал подзаголовок «Цикл трагедий». Этот подзаголовок вполне подошел бы и к справочнику «Режиссеры советского кино». Трагедии бывали разные. Трагедия независимой индивидуальности — Эйзенштейн, Довженко, Козинцев. Трагедия отсутствия этой индивидуальности — Кулешов. Трагедия потери личности — Эрмлер, Марк Донской. Еще более страшная трагедия неожиданного ее обретения — Калатозов, Александр Иванов. Трагедия непонимания собственного дара — братья Васильевы. А главная трагедия была у всех одна — ни один не смог до конца реализоваться. Одним мешали зависть, гонения властей, репрессии, другим — наоборот, успех, власть, монументы. Вероятно, поэтому и возрос столь резко в последние десятилетия интерес к отечественному кино 1920-х-1940-х годов. Открываются архивы, печатаются дневники и письма, появляются мемуары. И оказывается, что лауреат шести Сталинских премий Иван Пырьев еще с довоенных времен, еще до «трактористов», «свинарок» и «пастухов», мечтал ставить Достоевского, что сверхблагополучный Юлий Райзман (у него Сталинских премий было тоже шесть, и к тому же две государственных — одна Союзная, другая — республиканская) всю жизнь прожил под страхом повторить судьбу своего загубленного товарища Александра Гавронского, что Иосиф Хейфиц только на девятом десятке смог избавиться от «внутреннего милиционера» и вернуться к утерянной свободе рубежа 1920-х-1930-х годов, что братья Васильевы пятнадцать лет (и до, и после «Чапаева») жили мечтой поставить в кино «Пиковую даму» Чайковского. Так постепенно открываются одна за другой трагедии нереализованных судеб. Так появляется «загадка Пырьева», «загадка Райзмана», «загадка Хейфица». Не говоря уж об Эйзенштейне, Козинцеве, Барнете, Рооме… Списку нет конца. Войдут в него почти все. И лишь один режиссер, добравшийся до «верхушки кинематографического Олимпа», ставивший перед собой сложнейшие эстетические задачи (да и философские тоже — не столько по духовной необходимости, сколько из соображений bon ton’а), писавший книги, вершивший судьбы в меру возможностей — лишь один счастливо избежит этого бесконечного списка. Это — Сергей Юткевич. Загадка Юткевича в том, что у него не было загадки. Он — наверное, единственный в советском кино — реализовался до конца. Он сделал все, что хотел. Он хотел поставить своего «Отелло» — он сделал это. Пятнадцать лет он шел к этой цели — и остался удовлетворен. Он хотел рассказать миф о Ленине, миф о революции — революционным языком. А это сложнейшая задача: революционная форма при мифологическом содержании. Нужно ли решать ее — это отдельный вопрос. Но Юткевич решил. Шел к этому двадцать пять лет, но решил. Через запреты, проработки, страх и унижение, но решил. Он поставил «Незнакомку» и «Балаганчик» Блока. Пятьдесят лет мечтал об этой постановке — и осуществил ее. |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 06-12-2007 08:56 |
|
А еще он создал свою мастерскую. Он вернул на сцену своего любимого — хоть и абсолютно не понятого им — поэта. Он добился чинов, почета, признания — международного признания. Он добился споров, зависти. Он добился имени. Он добился всего, чего хотел. Он все успел… И ничего не осталось. В завершенности не может быть загадки. Замкнутый круг — это прекрасно, даже совершенно, но разгадывать его никому не придет в голову. Его уравнение хорошо известно. Замкнутые траектории не уходят в вечность. А. Матисс. Портрет Сергея Юткевича * * * Это, в общем-то, довольно изящный финал. Но заканчивать на такой ноте не хочется. Ей-богу, формализм был для Юткевича настоящей верой, пускай даже на подсознательном уровне. Не религией, как для многих — это как раз проходит. А именно верой. Он шел на компромиссы, на уступки, он отрекался и, вероятно, делал это с чистой совестью и даже не без удовольствия. И все равно каждой своей новой работой повторял: «А все-таки она вертится!» Настоящая вера не может не вызывать уважения. Какой бы она ни была. Но что же делать, если вместо Гамсуна все время получался комсомолец Гриша Фокин! Эйзенштейн оказался прав. В очередной раз. |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 ...... 7 8 9 ...... 14 15 16 17 Next>> |
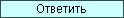
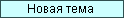
|
| Театр и прочие виды искусства -продолжение / Курим трубку, пьём чай / Что есть юмор? |